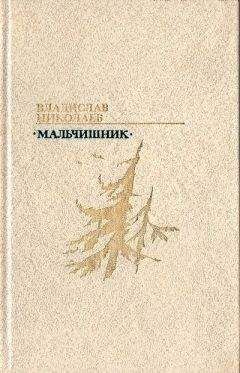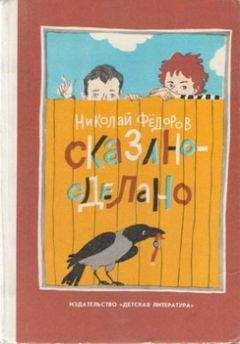Леонид Федоров - Злой Сатурн
В первый же день, отдохнув с дороги, устроил Василий Никитич Андрею проверку.
Без парика, скинув нарядный камзол и оставшись в шелковой рубахе, заправленной в короткие штаны, старший Татищев стал словно проще, и Андрей, оробевший было при первой встрече, почувствовал себя свободнее.
— Ну что ж! Вижу, времени зря не терял! — сказал довольный Василий Никитич. — Планиметрию, астрономию и географию знаешь изрядно, — и, перейдя на латинский язык, спросил: — А как по части розыска руд и плавки чугуна, стали?
Андрей по-латыни же ответил, что узнал об этом из прочитанных книг.
У Василия Никитича густые нависшие брови полезли вверх:
— Молодец! А по-немецки можешь? — и, выслушав ответ, покивал довольно: — Для начала сойдет. С немцами больше будешь говорить — попривыкнешь. Сейчас куда ни плюнь, все в немца угодишь. Как тараканы, во все щели полезли, где потеплее.
— Мне еще три года учиться. Не скоро доведется столкнуться…
Василий Никитич хитро улыбнулся:
— По-всякому случается. Ну да об этом разговор у нас дальше будет. Ты мне вот что скажи, что за любушка у тебя появилась?
Андрей вспыхнул: «Когда только успел узнать? Из дома не выходил, а все уж разведал. Неужто кто из дворни наболтал?»
— Настенька? — как можно спокойней переспросил молодой Татищев. — Это нашего соседа Орлова дочь. Только какая она — любушка? Девчонка совсем. Сирота, без матери… Отец хоть и скряга преизрядный, а души в ней не чает. Мне одному тоскливо было. А с ней вроде веселее. Встретимся у них или у нас в саду и рассказываем друг другу, что новое через книги узнали.
— По тебе судя, немало прочел. Видать, и Никифор изрядно с тобой занимался.
— Нету больше Никифора Лукича, — уныло произнес Андрей.
— Постой, постой! — удивился Василий Никитич. — Как — нету? Что болтаешь?
— В Тайный приказ увезли, и как в воду канул. Говорят, государственный преступник, на царя зло умыслил.
— Никифор-то преступник? Чтобы на такое пошел? Нет! Не иначе кто по злобе или корысти ради навет сделал. Сейчас фискал за, каждый донос плату получает… Хотя все может статься! К вольнодумству он и раньше склонен был… — По лицу Татищева пробежала тревожная тень: — А тебя на допрос не брали? Ты ведь часто у него бывал.
— Обошлось. Я, правда, побаивался.
Андрей рассказал о встречах с Рыкачевым, об аресте, о возникших подозрениях, что кто-то учинил донос. Не Зосима ли, однокашник? Скользкий какой-то, словно змей ползучий. Только о заветной рыкачевской тетрадке Андрей умолчал. Сам не зная почему, умолчал, внутренне убежденный, что говорить о ней Василию Никитичу не след.
— А этот… Зосима… У Рыкачева тебя не встречал?
— Нет. Но знал, конечно, что у него бываю.
Василий Никитич похрустел пальцами, спросил:
— Фамилия у Зосимы какая?
— Маковецкий.
— Из попов, что ли?
Андрей кивнул.
— Так, поповский сын Зосима Маковецкий… — словно запоминая, повторил Татищев. — Ну ладно. Поживем — увидим. Попы иногда тоже на что-нибудь годятся! — загадочно закончил он и сразу перешел на другое: — В Берг-коллегию поступил приказ — отобрать в академии самых способных учеников для прохождения науки на рудниках и заводах шведских. Для того и прибыли мы сюда вместе с начальником Коллегии господином Брюсом. Я уж давно мыслю, чтоб шел ты по горному делу. В канцелярии штаны просиживать не велика честь, а рудознатство великую будущность имеет. Государство наше на ноги встает, и нужны ему не только ратные люди, но и строители, и разные инженеры.
— Мне бы в морское ведомство поступить, — сказал Андрей, — штурманом на фрегате поплавать. Рыкачев обучил меня секстантом пользоваться, высоту солнца определять. Лоцию изучил… Больно уж мне хочется на другие земли поглядеть.
— Морская служба, Андрюша, тяжелая, похуже солдатской будет. Мореход должен иметь отменное здоровье и силу, а ты, хотя ростом и вышел, а жидковат для плавания. Я тебе по-отечески советую: выбирай горное дело.
Андрей задумался. Нелегко было расстаться с мечтой о морских приключениях, о крепком пассате, надувающем громаду белоснежных парусов, о далеких островах среди южного моря, где стоит вечная весна и никогда не бывает ни морозов, ни вьюг. Ох, как нелегко со всем этим расстаться! Но разум подсказывал, что Василий Никитич прав, и когда тот, первым нарушив молчание, спросил:
— Ну как, решил?
Андрей кивнул.
— Вот и ладно! — обрадовался Василий Никитич. — Завтра в академии с графом Брюсом будем отбирать учеников для посылки в Швецию. Я тоже поеду, за вами приглядывать стану да кое-какие поручения государя исполню. А теперь ступай. Мне поработать надобно.
Когда Андрей вышел, Василий Никитич достал из-за пазухи кожаный мешочек, вытащил из него сложенный в несколько раз листок бумаги и прочел:
«И надлежит тебе, помимо распределения и надзирания за учениками, разузнать о мощи шведской армии, дознаться, не мыслят ли шведы начать войну сызнова. Все сие должен делать потайно, чтоб конфуза какого не было. Поручаю тебе также разыскать в Швеции и нанять для работы в России добрых мастеров гранильного искусства и инструментального дела. А чтобы те согласились своей охотой к нам ехать, скажи, что деньги и довольство им будет выделено особо, против местных мастеровых…»
Татищев перечитал несколько раз бумагу, чтоб запомнить, и сжег на свече. Натянул камзол, покрасовался у зеркала, прилаживая парик с длинными буклями, и вскоре уехал. Вначале завернул на Мещанскую, к графу Брюсу. Потом вместе с ним проехал к начальнику Монастырского приказа Мусину-Пушкину, ведавшему академией.
Поездка, видно, была удачной. Василий Никитич вернулся домой довольный и даже не выбранил сторожа, запоздавшего открыть ворота.
С самого утра в академии воцарились необычайное оживление и сутолока. По коридорам сновали встревоженные преподаватели, заглядывали в аудитории, наводили порядок, ругали сторожей и надзирателей и под горячую руку совали ученикам зуботычины. Несколько раз, отдуваясь от волнения, вытирая платком багровое, вспотевшее лицо, просеменил префект. В кабинете проректора гремел бас, там получал разнос профессор риторики, явившийся, как обычно, навеселе.
Занятия шли в этот день кое-как. Преподавателей то и дело вызывали к начальству, аудитории гудели, как растревоженный улей. После обеда, когда младшие классы были распущены по домам, разнесся слух, что приехали долгожданные гости.
По аудиториям прошел префект и, выкрикивая по списку фамилии, приказал всем вызванным явиться к проректору. Встревоженные, ломая голову, что бы сие могло значить, студенты сгрудились возле канцелярии.
— Ну, братцы, не иначе как в солдаты забирают.
— Ну и что? По мне, лучше в армию, чем эту философию да риторику зубрить.
— А может, по епархии отправят. Будем до конца дней кадилами размахивать.
— Эх, мало мы погуляли. Кабы знать, я бы не на учебы налегал!
Андрей помалкивал и казался спокойнее остальных. Но, когда распахнулась дверь и секретарь выкрикнул его фамилию, вздрогнул. С волнением переступил порог, остановился у двери.
За длинным столом помимо проректора с префектом сидели Василий Никитич, начальник Монастырского приказа Мусин-Пушкин и неизвестный человек в генеральской форме.
— Студент Татищев, подойдите ближе, — раздался глуховатый голос.
Андрей сделал несколько шагов и снова замер, встретив пристальный, изучающий взгляд генерала.
Генерал наклонился к Василию Никитичу, что-то спросил у того шепотом, откинулся в кресле, на минуту задумался. Потом поднял на Андрея синие, холодные, как лед, глаза:
— Скажи-ка, сударь, что есть горизонт и какая разница между видимым и рабочим горизонтом?
Землемерию в академии не проходили. Андрей понял, что генерал мог узнать об изучении им этой науки самостоятельно только от Василия Никитича. Кто же он такой? Неужели сам Брюс, о котором мельком упомянул в день приезда Татищев? Так и есть. Разве можно не узнать шотландца? Рыжеватые волосы, выбившиеся из-под пышного парика, суровая складка тонких губ, сухое, без единой морщины лицо, насупленные брови, льдинки колючих глаз…
Андрей весь подобрался. С Брюсом шутки плохи, ему кое-как не ответишь. Кто может сравниться с ним по знаниям? Астроном и математик, инженер и артиллерист, какого поискать нужно, географ, ботаник, переводчик. Это его трудами изданы в Москве многие полезные книги и учебники, календари. Голова! И никогда не высовывается, не лезет вперед всех, расталкивая окружающих государя царедворцев. Выдвинулся своим умом да чисто шотландским упорством. Москвичи боятся этого сурового и непреклонного человека, считая его колдуном и чернокнижником. Шепчут, что предается он по ночам таинственным занятиям на вершине проклятой Сухаревой башни.