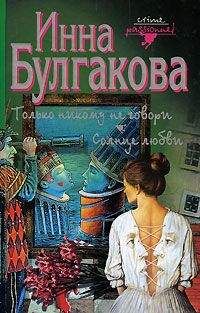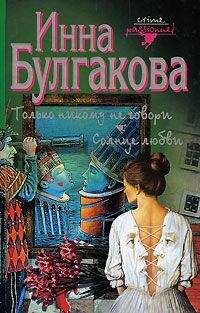Инна Булгакова - Сердце статуи
— Вообще народу много было, массовка большая, но… непонятно.
Я подумал и спросил:
— Вам ни о чем не говорит такое имя: Иван Петрович Золотцев?
— Нет, не слышала.
— Он отдыхал в кемпинге на берегу Оки. С Верой познакомился у меня 9 мая.
— А, это его жена погибла?
— Нет, другого моего друга — ювелира Колпакова. Иван Петрович — невропатолог.
— Про них она не упоминала, только про вас рассказывала.
— Что? Что она рассказывала?
Наташа рассмеялась и не ответила. Я взмолился:
— Наташенька, я себя потерял, понимаешь? И вот хочу собрать, стяпать-сляпать…
— Зачем?
— Чтобы выжить, мне нужно найти убийцу.
— Да, вас же чуть не убили… а Веру убили, наверное, — она вздрогнула. — Конечно, вы хотите этого подонка уничтожить. Так?
— Так.
— Вера говорила: как ты посмотришь, словно прикоснешься, она голову теряет.
— Неужели у меня такой взгляд?
— Такой, — она усмехнулась угрюмо.
— Да ведь она сама меня бросила! Я письмо получил: она меня бросила.
— Ну, там же «медовый месяц» светил.
— Господи, вы такие юные, такие прелестные, вам ли рассчитывать…
— Думаешь, легко по квартирам скитаться? — перебила Наташа агрессивно. — Сам бы попробовал, у тебя-то дворец!
— Сарайчик с гробом остался.
— Дом сгорел?
— Душа сгорела. Да, Наташа, я ничего не знаю, не ориентируюсь в этой жизни…
— Что с гробом-то?
— В сарае на столе стоит. Тяжелый, полированный, с замками…
— Ты с ума сошел?
— Весь мир сошел.
— Ну уж, не преувеличивай.
— Мне кто-то прислал гроб, а я боюсь об этом говорить.
— Так ведь говоришь!
— Нечаянно… Не бойся, я не совсем сдвинулся, следователь гроб видел. Но фирму непросто отыскать.
Она вдруг говорит:
— А Вера тебя боялась.
— Да неужели? Да почему же?
— Ты ей кулон разорвал 9 мая.
— Из-за чего?
— Не знаю. Что-то тебе не понравилось. А главное: ты изумруд в глину кинул и хотел замесить… или в гипс, ну в мастерской. Чтоб камень навсегда исчез. Вера тебя на коленях умолила. Вот такие идиотские выходки, — закончила Наташа философски, — и сводят женщин с ума.
— Никуда он не исчез, в секретере лежит. Знаешь, ведь работы мои разбили.
— Федор Платонович говорил. Убийца какой-то придурок. Да что от мужчин ждать?
— А если он драгоценность искал?
— Так она в секретере?.. — Наташа задумалась. — А может она не тебя боялась?
— Ее как-то ужасно потрясла смерть той женщины. Ну, в автомобильной катастрофе.
По странной ассоциации идей я поинтересовался:
— А режиссер когда утонул?
— Третьего или пятого… в общем, в начале июня. Много людей умирает… просто так, нечаянно, неожиданно.
Мы помолчали.
— Я лепил с Веры Цирцею?
— Ага, волшебницу. Но вы больше любовью занимались, чем делом.
— Все уничтожено. И она уничтожена.
— Кто?
— Статуя. Но снится. Белая, из алебастра, с зелеными пятнами. Лицо уж совсем позеленело. Я было думал, что она в доме…
— Кто?
— Вера. В моем доме. Но оказывается, она ушла.
— О чем ты говоришь? — закричала Наташа.
— Ее видели, понимаешь? В саду? Она качнула головой.
10
Москву-то я помню, знаю, а этот район нет… Бело-голубые башни, простор и ветер, такой горячий сквознячок, а вдруг обдаст ознобом. Поймал себя на жесте — ловлю такси — привычный, наверное, жест. Содрали тысячи и привезли в центр, в родное училище — ну, тут все знакомо.
Отнеслись ко мне аж с почтением (правда, я известен, говорят, и в иностранных галереях выставлен, а в Змеевке одна «Надежда» осталась). Разыскали руководителя мастерской — я очень просил — крупный старец, мне под стать, с сизой головой. Он целоваться полез, а я его не помню, хоть убей! «Ты моя гордость, — говорит, — лучший ученик. Тебе удалось соединить, — говорит, — античную пластичность, средневековую мистику в постмодернистской манере». А я ему: «Это неважно, — говорю (аж брови у старика вздыбились). — Я заболел и, чтоб тонус восстановить, должен свою жизнь вспомнить». Ну, вкратце объяснил: убили, мол, разбили… чем жить?
— Святослав Михайлович, как я к вам в ученики попал, помните?
— Ну как же, дорогой! Ты учился по классу живописи. У тебя был обязательный зачет по скульптуре: выполнил голову Сократа и «Прелестную пастушку». Я сразу отметил врожденные способности. Ты ко мне и перешел.
— А не связан был этот переход с какой-то трагедией в моей жизни?
— Ни о чем таком не слыхал. Ты, Максим, всегда напоминал мне по темпераменту титанов ренессанса: гордость, широта натуры, полнота жизни, страстность, даже, извини, жестокость.
— Жестокость?
— Я неточно выразился… просто в свое время меня поразило, с каким хладнокровием ты сделал посмертную маску матери. Но это хладнокровие — видимость, конечно.
— Моей матери? Она умерла, когда мне было двадцать?
— По-моему позже… ну да, ты у меня уже два года учился.
— В моем доме нет масок, значит, их тоже уничтожили.
— Зависть ты возбуждал, да… но был так отъединен, с коллегами не водился, насколько мне известно. И из какой преисподней возник тот вандал, не представляю! Кстати, маски я помню — матери и отца — они висели в северном простенке между окнами.
— Вы бывали у меня в мастерской?
— Неоднократно. Кажется, ты был ко мне привязан, Максим… насколько вообще способен к кому-то привязаться.
— А что, я такой, значит, сверхчеловек был?
— Вольный ветер.
— А когда умер мой отец?
— Примерно пять лет назад. Ты удачлив. Официально не так чтобы признан, но это тебе не вредило, напротив. Полупризнан, так лучше сказать — казенные заказы были. Зато за границей… Словом, ты купил дом в Змеевке и совсем уединился.
— Пять лет назад… — пробормотал я. — Все не то, не то. Святослав Михайлович, я потерял память с двадцатилетнего возраста. Ну почему именно этот рубеж?
— Могу только повторить: в двадцать лет ты стал моим учеником. И очень скоро — мастером. Знаешь, Максим, Бог с ней, с памятью, я не помню, что со мной позавчера было. Главное: сохранил ли ты навык ремесла.
Мне вспомнилось существо с крыльями и рожками в моих руках.
— Сохранил… как память плоти, материи.
— Ну и слава Богу!
— Но я не могу! Я испытываю абсолютное отвращение к работе.
— Значит, удар настиг тебя в процессе творчества. Это последствия травмы, это пройдет, дай время.
— А страх?
— Максим, то, что ты рассказал, чудовищно. Я б тоже перепугался.
Так я ему еще не все рассказал, про гроб не рассказал.
— Неужто я такой трус?
— Ни в малейшей степени. Ты — настоящий мужчина.
— Если я снимал посмертные маски с самых близких, с родных… почему я теперь так боюсь смерти, разложения, зеленых пятен на трупе?
— Погоди! Ведь ты выжил.
— Женщина убита прямо на мне… то есть кровь ее на меня пролилась, когда я был оглушен, но не смешалась с моей кровью.
— Господи, помилуй! — старик вдруг перекрестился, вот диво дивное! — Понятно, чего ты так боишься. Ты был без сознания, но плоть твоя ощущала другую плоть, другую кровь.
— Да, да, это так!
— Может, ты плюнешь на все это, отстранишься и положишь все силы на новый замысел?
— Не могу, Святослав Михайлович, ни за что!
— Тогда у тебя один выход, Максим: найти убийцу.
— Вы правы.
— Найдешь! Чем ты всегда брал — редкостной, бьющей через край энергией.
— Этот фонтан иссяк.
— Забьет! Это от Бога, Максим.
— Если б я в этом мог быть уверен.
— Я, конечно, старая калоша, но на что-нибудь еще сгожусь. Всегда — запомни, Максим, всегда! — ты можешь прийти ко мне.
Я куда-то шел и шел, ничего вокруг не замечая, а пришел в свой детский двор. Четырехугольное, мрачноватое из-за высоких стен пространство, асфальт. Мальчики гоняли мяч, сейчас бабушка позовет: «Максимка, ужинать!» Никто не позвал. Я зачем-то поднялся на третий этаж, позвонил. Женщина открыла, немолодая, незнакомая.
— Вы к кому?
— Простите, я здесь родился и жил… Вот приехал и как-то потянуло…
— Так что вам надо?
— Видите ли, я болен…
Дверь тотчас захлопнулась. Действительно, глупо: что мне надо?
Отворилась.
— Ну?
— Я не бродяга, не бойтесь. Вот удостоверение.
Женщина взглянула на раскрытую корочку.
— А, так вы Любезновы! Мы после вас сюда въехали. На удостоверении вы похожи…
— Усы и бороду сбрил. Можно мне войти на минутку?
— Да, пожалуйста!
Она что-то продолжала говорить, я не слышал. Заглянул в комнату родителей, вошел в свою… Ну, обстановка другая, конечно, а окно то же: упирается в глухую красно-кирпичную стену соседнего дома. Бессолнечное окно, но детство и юность светились для меня сквозь многолетнюю плотную тьму, которая разорвалась на миг подземным толчком и грохотом… Нет, просто Камаз во двор въехал, нет, никаких отрицательных эмоций, даже печаль — бабушка, мама, отец — «моя светла».