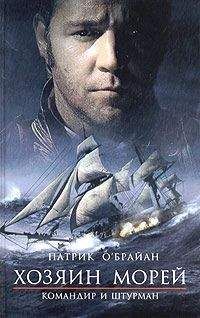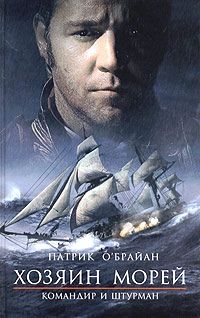Наталья Троицкая - Сиверсия
– Жить надо, а не приступать к жизни.
– Хорошо сказано. Извини, что спрошу. Сколько тебе лет? Лет восемьдесят пять?
– Сто двадцать четыре.
Хабаров изумленно посмотрел на старика.
– Красиво!
– Быстро…
– Ты, видимо, всегда почитал Бога, раз он послал тебе такую долгую жизнь.
– В «Брихадараньяка-упанишаде» сказано: «Кто почитает некое божество с мыслью: «Оно – иное, иное, чем я», тот не ведает. Его, как животное, используют боги. Ведь поистине, как многие животные поддерживают существование человека, так и каждый человек поддерживает бытие богов». Мы можем рассуждать много часов кряду, а придем к одному: единственное, к чему надо стремиться – это любовь.
– Это твоя религия?
– Я всю жизнь к Богу стремился, а не к религии. Пойду, дверь входную откопаю. Пургой-то, верно, до крыши замело. Еще бы дорожки почистить… Не сидеть, дела делать надо!Она узнала ее сразу и поднялась навстречу.
– Аня? Здравствуйте! Это я вам звонила.
Девушка безразлично пожала плечами, села за маленький круглый столик.
Она, действительно, была очень на него похожа. Те же глаза, лоб, тот же овал лица, та же горделивая осанка и уверенная повадка.
Алина дождалась, пока смолкнет голос диспетчера, объявлявшего по-французски, а потом по-английски очередной вылет, сказала:
– Спасибо, что приехали. Я боялась, вы не успеете. У меня самолет через час. В более удобном для вас месте встретиться не получилось.
Девушка молча кивнула.
– Аня, я – приятельница вашего отца. Мне тяжело это вам говорить, но, полагаю, вы должны знать. Ваш отец болен. Тяжело болен.
Девушка удивленно вскинула брови.
– Вы уверены? – с сильным акцентом произнесла она.
– К сожалению, да.
– Вообще-то, он не очень похож на больного. Дважды в неделю играет в теннис. Каждое утро плавает в бассейне. А мама знает?
Алина ладонями сжала виски. Осознавать, что Аня считает другого, не Хабарова, своим отцом было и неприятно, и больно.
– Аня, я говорю о вашем настоящем, русском отце – Хабарове Александре Ивановиче. Вы помните его?
Аня равнодушно смотрела на нее.
– Вы помните? – повторила Алина.
– Меня воспитал Пьер. Он мой отец. А мой русский отец бросил меня! Он ни разу не приехал ко мне, даже не поинтересовался, жива ли я. Что ему нужно?! Денег на лечение? Я дам. Я работаю, у меня свой счет.
– Он ничего не просил. Он даже не знает, что я здесь.
– Тогда в чем проблема?
– Понимаете, мы с вами должны поддержать его. Если он почувствует, что он нужен, ему будет легче бороться с болезнью.
Аня встала, взяла сумку.
– Вы вешаете на меня чужие проблемы. Мило!
– Аня, вы уже взрослая, – Алина удержала ее за руку. – Обижаться проще. Любить сложнее. У вашей мамы и у вас была новая семья, новая жизнь. Ваша мама настояла, чтобы вы с отцом не встречались. Есть даже решение французского суда, запрещавшее вам с отцом видеться. Вы не знали об этом? – уточнила Алина, заметив, как от удивления расширились глаза девушки. – Он виноват только в том, что ваша мама променяла его на француза и не проявила достаточно мудрости в отношении его и вас. Он любил и любит вас! Я буду ждать вас в Москве. Вот адрес, телефон, – она сунула бумажку с адресом в руку Ане. – Приезжайте!
Аня вертела листок в руках.
– Чем он болен? – наконец спросила она.
– Онкология.
– Вы сказали, что вы его при-я-тель-ни-ца, – старательно, по слогам выговорила мадмуазель. – Как это? Я не переведу это слово. Мама давно не говорит со мной по-русски, а моя русская бабушка умерла два года назад. Я стала забывать язык.
– Друг.
– То есть он вам чужой?
– Он очень близкий мне человек.
– Не понимаю.
– Я люблю его.
Аня убрала листок с адресом в сумочку.
– Я подумаю над тем, что вы мне рассказали. Еще я должна расспросить мать. Я приму решение. Я сообщу вам.
Девушка вышла из кафе и по крутой винтовой лестнице бойко побежала вниз, в зал ожидания аэровокзала. Вдруг она остановилась, оглянулась в сторону наблюдавшей за нею Алины.
– У вас его фото с собой есть? – крикнула она.
Алина кивнула.
Девушка вернулась, протянула руку.
– Дайте! – требовательно скала она.
Алина протянула фотографию. Аня долго всматривалась в лицо на снимке.
– Это точно он? Я совсем не помню его.
Она достала мобильный телефон и сделала несколько снимков с фото. Потом она вернула фотографию Алине и, более ничего не говоря, направилась к выходу.
Алина осмотрелась, словно желая собрать с собою на память хоть какие-то впечатления. Вокруг были люди. Люди улыбались. Люди смеялись. Они были жизнерадостными, энергичными, живыми. Кто-то улыбнулся ей. Она сделала усилие, улыбнулась в ответ. Как же это трудно, неимоверно трудно просто улыбаться…Часа в три пополудни Митрич засобирался.
Он достал с чердака короткие охотничьи лыжи, тщательно осмотрел их и выставил на крыльцо «морозить». С печи он стащил старый рыжий овчинный тулуп, которым застилал печь и на котором спал, проверил наличие всех пуговиц на тулупе, отряхнул его и повесил на рога у двери. Также с печи он достал узелок, из него выложил на лавку новые меховые сапоги, наподобие унт, и новый китайский халат. Потом Митрич снял с себя медвежью жилетку, с которой не расставался столько, сколько его помнил Хабаров, снял старый халат, коротко обрезанные, на манер ботинок, унты и облачился в обновки.
– Иди-ка сюда, – поманил он Хабарова и надел на него свою старую медвежью жилетку.
Жилетка была тяжелой и, как показалось Хабарову, сильно давила на спину.
– Носи. В жилетке-то не только сила медвежья, – говорил ему Митрич, наблюдая, с каким любопытством Хабаров ощупывает спинку жилетки. – Тут хитрость есть. Вдоль позвоночника и по пояснице вшиты камни звездного неба. Они силу дарят. На них женьшень, корень жизни, растет. Я их спиной-то ошлифовал. Носи, не снимай и поправишься. Как поправишься, спрячь жилетку-то, не отдавай никому! Иначе вся сила к новому хозяину уйдет. Опять тебе худо будет. Усек?
– Спасибо, – Хабаров растроганно обнял старика. – Ты как же?
– Мне уж без надобности. Было бы что ценное, отдал бы тебе. Да не нажил. Ничего, кроме этой жилетки, и нету.
– А мудрость?
– «Знающие не говорят, говорящие не знают», – сказано древними. Когда утверждаешь, что нечто является чем-то, теряешь это всецело… Присядем на дорожку. Пора мне.
– Куда ты собрался?
– В путь.
Старик поднялся, степенно надел овчинный тулуп, застегнул его на все пуговицы, нахлобучил старую, сшитую на китайский манер из байкового одеяла шапку, дошел до порога, остановился, обернулся и отвесил поясной поклон своему старенькому убогому жилищу.
Враз ослабев, он тяжело переступил через порог одной ногой, потом другой и не оборачиваясь пошел на улицу.
Растерянный Хабаров вышел следом.
Мела поземка. Ветер то и дело налетал ледяными порывами, заставляя поеживаться и кутаться. Старик надел лыжи, поудобнее пристроив обутые в унты ноги в кожаных креплениях, надел рукавицы. По расчищенной от снега тропинке он пошел к бане.
Хабаров тупо шел за ним, оступаясь, скользя по примятому горкой посередине тропинки снегу. У бани он зачерпнул пригоршню снега, растер по мертвенно бледному лицу. Тропинка кончилась. Впереди была снежная целина, а метрах в шестидесяти за ней начиналась тайга.
– Давай прощаться.
Старик распахнул объятия.
Хабаров обнял его, прижал к сердцу.
– Ну, полно. Полно… – отстранил его Митрич.
– Не уходи. Пожалуйста, не делай этого! Не уходи!
Руки Хабарова заметно дрожали, а на лице сложной палитрой застыли и боль, и мука, и любовь, и сожаление.
– Что ты задумал, отец?! Хочешь умирать – умирай дома. Я мешаю, значит я уйду. В тайгу-то зачем?
Он рухнул на колени перед стариком, заплакал. Он плакал громко, навзрыд, с бешено заходящимся дыханием.
– Пожалей… Пожалей меня, отец… – он простер руки к старику, словно просил о милостыне, без которой не только дальше жить, но и дышать, и верить, и чувствовать было невозможно. – Не уходи… Прости… Прости меня. Прости… Не уходи!
Нервный спазм перехватил горло. Хабаров замолчал, склонился к самым ногам старика в земном поклоне.
– У меня никого… никого не… осталось… кроме… тебя… Нет… Нет больше корней, которые… которые давали мне силу. Я один. Совсем … Мне страшно. Страшно потерять тебя! Не уходи, слышишь?! Поедем со мной. Я буду ухаживать за тобой. Ты же еще крепкий. Ты еще долго жить будешь. Ты еще внуков будешь растить! А там… Там страшно… Там холодно… Там ты один будешь… Совсем беспомощный… Я не хочу, чтобы ты был один! Мне жалко тебя, и себя без тебя жалко! У меня сердце от горя рвется! Ну, накричи на меня, прогони, только не уходи!
Старик отстранился.
– Не-е-ет! – почти в истерике выкрикнул Хабаров и уцепился за его одежду.
Старик снял рукавицы, заткнул их за полу тулупа и простер руки над головой Хабарова.
– Все делается так, как должно. Все идет своим чередом. Ты не будешь горевать и плакать обо мне, не будешь меня искать. В твоей душе светло и покойно. Иди в дом.