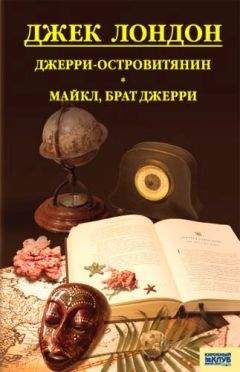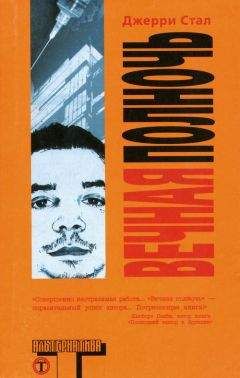Наталья Троицкая - Сиверсия
– Ё-мое! Ты чего творишь, Лиза?!
Он вспыхнул, как спичка, вскочил.
– А ты ударь меня! – жена с вызовом подставила лицо.
– Тебя куда понесло?! Эй! Девочка! – он щелкнул пальцами перед ее носом.
– Была девочка да быстро старухой стала! От жизни с тобой! Ты забыл, что у тебя есть дочь. Ты приходишь, она уже спит. Ты просыпаешься, она уже в садике. А в воскресенье папа снимает стресс!
Он безразлично махнул рукой, рухнул в кресло и уставился на жену.
– Тебе чего не хватает? Что ты орешь?! Я мало зарабатываю?!
– Мне денег твоих не надо!
– Ух ты! Ух ты! Как мне интересно! – он растерянно улыбнулся. – Сережки, что у тебя в ушах, стоят столько, сколько нормальный мужик получает за пятилетку. Перстенек, что на твоем пальчике, звезда с неба, сколько стоит? А столько стоит, дорогая, сколько наш подъезд за год не зарабатывает! А шмотки на тебе? А твои загранпоездки? А учеба твоих сестер? А подарки твоим родственникам? А машина твоя? Ты же на такси уже не хочешь! А няня с домработницей? Все это тебе не надо. А что надо?!
– Я морду твою, пьяную, больше видеть не хочу. Я жить хочу! Ты вспомни, Саша, когда в последний раз ты спал со мной? Вспомни, когда говорил мне, что любишь?
Он протестующе вскинул руку.
– Ой! Расплáчусь! Я пьяный, Лиза, а не тупой. Я же вижу, ты ищешь повод.
Из бара он достал еще бутылку вина, демонстративно откупорил ее и выпил почти половину прямо из горлышка.
– А ты повод не ищи, – рукавом он отер губы. – Просто подойди и скажи: «Ты мне надоел». А лучше ничего не говори. Просто подойди и посмотри мне в глаза. Я пойму.
Она всхлипнула.
Хмельной походкой, держа бутылку за горлышко в опущенной руке, он пошел к ней.
– Ты что?! – она испуганно отшатнулась.
– Ты думаешь, я не знаю, что было в Лионе? Ты ткала полотно любви…
– Следил?
Он усмехнулся.
– Нет, что ты…
Осторожно, пальцами, он вытер ей слезинки, коснулся своим лбом ее лба.
– Я всегда чувствовал тебя, Лиза. Тебя не было рядом, но я всегда знал, что с тобой. После твоего возвращения из Лиона я чувствовать тебя перестал. Тебя больше нет со мной. Это больно. Это так больно, что душа в клочья!
Он отвернулся, отхлебнул еще из бутылки, в кармане куртки нащупал ключи от машины, достал.
– Я только машину возьму. Больше мне ничего не надо.
Он пошел к двери.
– Саша! – выкрикнула она сквозь слезы.
Он обернулся.
– Видишь, как все просто. Даже неинтересно…
Их пытались помирить друзья. Виктор Чаев и Володя Орлов проявляли чудеса изобретательности.
– Лизонька, вы самые тяжелые времена пережили вместе. У вас столько общего. У вас ребенок! – говорил Виктор Чаев. – С Саней же невозможно работать стало. Он на людей кидается! Помиритесь. Прояви первой разумную инициативу.
– Я что угодно проявлю, Витенька. Он не простит мне. Единственное, что он не может простить, это предательство.
Два года спустя они встретились в аэропорту.
– Зачем ты приехал?
– Хочу удостовериться, что ты улетела.
– Тебя, Хабаров, время не меняет.
Он опустился на корточки перед дочкой.
– Анька, я люблю тебя, малыш.
Она обвила его шею ручонками.
– Аня, нам нужно идти, – пряча слезы, заторопила она. – Давай руку. Самолет без нас улетит.
– Погоди минуту! – он просительно посмотрел на бывшую жену. – Анютка, ты будешь жить с мамой в большом доме с красивым садом. У тебя будет много слуг и игрушек. У тебя будет замечательная школа, много друзей. Когда захочешь, будешь приезжать ко мне в гости, а я к тебе. Поняла? Так что все будет замечательно! Помни, малыш, если я буду нужен тебе, ты мне дай знать, и я прилечу. Как Карлсон. Ладно?
Дочка кивнула.
– Я всегда буду любить тебя, папочка!
– Аня, пойдем! – настойчиво потребовала Лиза.
– Ну, беги-беги… – он поцеловал ее в макушку.
Он неотрывно смотрел им вслед, стараясь впитать, запомнить навсегда каждый их шаг, каждый жест, каждую секунду. Он чувствовал, что с ними уходила лучшая частичка его самого.
«Мы имеем так много, а ценим всё это до обидного мало! В результате теряем всё. Самое печальное в том, что и не замечаем, что потеряли…» – возвращаясь в памяти к тем событиям, думал Хабаров.
Слезы помимо воли струились по его щекам. Тогда же он не плакал. Было что угодно: обида, злость, наглость, но не любовь, печаль и сожаление.
Эгоистичным волевым усилием он изменил жизнь своей дочери, позволил, чтобы его место, место отца, в ее жизни занял пусть и хороший, но абсолютно чужой ребенку человек. Он украл у дочери половину полагающейся ей любви.
Он не смог простить и понять Лизу. Он изменил ее жизнь, он заставил ее пролить много слез и принять тяжелое, ненавистное решение.
Он долго винил за это судьбу, жену, но не себя. Он долго чувствовал себя жертвой, мучился и обижался. Так было долго, очень долго, до тех пор, пока в его жизнь не вошла Алина.
«Алина…»
Нервная судорога пробежала по его лицу. Хабаров вскинул руку, пальцами сдавил веки, задержал дыхание.
Ветер заплутавшим волком скулил в печной трубе. Поскрипывала, вздрагивала под жесткими порывами ветра избушка. Билась о стены, бесилась пурга. В кромешной темноте ночи от этих звуков было жутковато. Даже сверчок, тянувший за печкой свою заунывную песнь, затаился и замер.
«Н-да-а… – Хабаров усилием подавил тяжелый вздох. – Опять жаль себя. Опять жаль ее. Опять обида. Опять злость. А любить… Любить не умею. Не умею! Господи, научи! Сбился я с пути-дороги. Бреду впотьмах. Мордой на все натыкаюсь. Где ж ты, моя путеводная звездочка? Господи, помоги прозреть…»
– Не спишь чего? – вдруг громко спросил его Митрич.
Он зашевелился на печи, перевернулся на другой бок.
– Не спится…
– Заплутал ты в суете-то, – сказал старик. – Суета глаза застит. Заезженный ты суетой, раздавленный. Сил на небо поднять глаза нету. Звезды-то под ногами, в грязи, не ищут… Чтобы ты окреп, обрел силу поднять глаза на небо, тебе и посланы испытания. Лиан лимонника издает благоухание лишь когда его раздробишь, раздавишь. Так и душа человеческая издает благоухание, наполняется силой, пройдя испытания. А мы не понимаем, а мы горюем, а мы обижаемся, плачем… Причина слез, обид и огорчений в отсутствии знания.
Хабаров горько усмехнулся.
– Я боюсь при тебе думать. Мне кажется, я думаю вслух…
– Думай-думай. Не бойся. Главное только, чтобы мысли твои не были немощными, ибо сказано в Дхаммападе: «Расслабленный странник только больше поднимает пыли». А вообще-то ум пуст. Он просто переводит информацию в слова. Думай душой, вступай в поток[52].
– Я не умею.
– Успокой разум. Не анализируй. Страсти и мысли – это охотник, веди себя с ним, как маньчжурская пантера.
– Пантера?
– На земле охотник видит след пантеры, понимает, что она где-то рядом. Он берет ружье на изготовку, прислушивается, приглядывается. Он притаился. Только все это пустое! Не видит он зверя! Невдомек ему, что зверь прямо перед его носом. Потому что пантера влезает на дерево, выбирает сук прямо против своих следов на земле, а значит против взгляда охотника, растягивается на нем и кладет голову на передние лапы. Так она замирает и исчезает, превратившись в глазах охотника в нарост на суку. Будь пантерой.
– Какая из меня пантера, отец? Я, скорее – кабан-подранок, готовый броситься на любого, кто попробует приблизиться.
– Опять ты о своей исключительности! Бестолковый…
Старик умолк. В наступившей тишине Хабаров слушал биение своего сердца. Он не сразу понял – почему. Прислушался. Оказалось, ветер стих. Он не завывал больше в трубе и не расшатывал старенькую избушку своими неистовыми порывами. Сверчок за печкой ожил и вновь завел свою долгую, заунывную песню. Наступало утро. Оно победило пургу. Победило примерно-показательно, как когда-то Михаил и Ангелы его победили дракона и ангелов его, низвергнув на землю[53].
Хабаров надавил кнопку подсветки циферблата наручных часов. Стрелки показывали семнадцать минут шестого.
– Митрич, метель утихла. Слышишь? – негромко произнес он. – Наступает утро…
– Время начала. Время пытаться разглядеть Видящего твое зрение, время пытаться услышать Слышащего твой слух, время пытаться осмыслить Мыслящего твои мысли, время почувствовать Чувствующего твою душу, как частичку Самого себя.
По кряхтению Митрича Хабаров понял, что дед слезает с печи.
– Погоди, я помогу.
Хабаров заторопился к нему.
Старик сел на лавку возле печи, бережно прижимая к груди котелок.
– Спасибо, спасибо… – тяжело переводя дыхание, поблагодарил он. – Чем дальше, тем печка-то все выше и выше делается, волк меня съешь! – сквозь смех выговорил он. – На-ка, отвару выпей.
Он протянул стоявшему рядом Хабарову котелок.
– Я с вечера поближе к трубе пристроил. За ночь травки всю силу в отвар отдали. Пей. На здоровье… – тяжело выговорил он.
После смены погоды ему нездоровилось.
Отвар был горьким до такой степени, что сводило скулы.