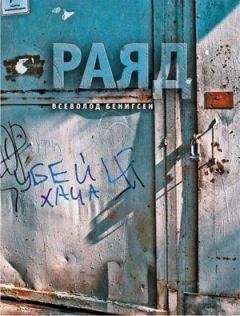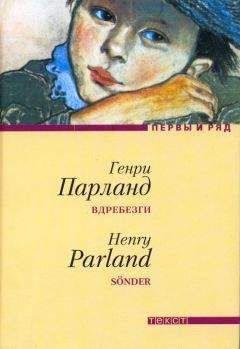Всеволод Бенигсен - ВИТЧ
Максим повернулся к «телефону», но тот спал.
— А я тебе скажу… Конформизм был в том, что они не занимались своим прямым делом, а только собачились с властью. Что в итоге вылилось в привычку и полный эскапизм. Конформизм в том, что им проще было создать миф, нежели творить… И все, на что хватило их внутренней свободы, — это остаться несвободными, то есть выдумать себе новую несвободу… Впрочем, что с тобой говорить? Ты все равно спишь…
Максим с трудом оторвался от дивана и встал на ватные ноги. Как ни странно, они выдержали вес тела. Мир, набирая обороты, закружился вокруг Максима пьяной разноцветной каруселью.
— Телефона, телефона! — Максим легонько пнул ногой соседа, но тот зло пнул Максима в ответ.
— Ладно, спи, — добродушно разрешил Максим. — Все спят, и ты спи.
Опираясь на стены, которые почему-то тоже шатались и плыли, и переступая, словно безногий инвалид на протезах, он поднялся по ступенькам к входной двери. Кивнул угрюмому охраннику и вышел на улицу. Было темно. Колючий ночной воздух прорвался в легкие, и Максим замер, глотая его, как рыба воду, словно надеясь получить из этого ледяного потока кислород. Затем пришел в себя и, ежась от пробиравшего внутренности холода и кутаясь в прокуренный пиджак, двинулся по улице, не имея ни малейшего представления, куда он идет.
«Просранная жизнь… просранное будущее… И куда податься? И чего я хочу? И на кой хер я вообще трепыхаюсь? А надо просто жить, устраиваться, получать удовольствие, плясать и ни о чем не думать… А может, ВИТЧ — это бич божий? Витч-бич… Sex on the витч… И послан он нам для того, чтобы мы не выебывались, а жили как полагается… Не мудрствуя лукаво… Не задавали себе сложных вопросов… Довольствовались малым… Создавали семью… делали детей… обустраивали свои жилища… Может, не надо бояться потратить время зря? Не надо так трястись над собственной жизнью? Пойти на очередную премьеру Толика, пойти на встречу одноклассников, заговорить с юношеской любовью в метро… Может, тогда и откроется смысл жизни во всей своей простоте… ВИТЧ — бич… bitch… bewitched… околдована… очарована… bewitched — околдованные ВИТЧем… А был ли Привольск? А был ли Зонц? Был — не был… Есть или нет… Вот в чем суть… Не в том, что какой-то Мазуркин требует от меня какого-то абсурда, чтобы они могли напечатать мою статью, а в том, что я не знаю, существует ли на самом деле этот Мазуркин… Есть ли культура или нет ее… И была ли она вообще? Все живем в придуманном мире… Одни придумали себе какую-то культуру… другие придумали ее отсутствие… И проверить, кто прав, не представляется возможным… Было — не было…»
Дальше мысли запутались, стали спотыкаться и падать…
Прищурившись, Максим завертел головой, пытаясь понять, где он находится. На улице не было ни души. Где-то впереди горела ярко освещенная витрина мебельного салона-магазина. Максим двинулся на свет, как заблудившийся путник идет на мерцающий вдалеке фонарь. Через пару минут он ткнулся лбом в стекло витрины и уставился на то, что было внутри. Уютно обставленная гостиная, кожаный диван, большая плазменная панель. На диване сидела идеальная семья. Папа-манекен, жена-манекен, дочка-мане-кен. У их ног на белоснежном ворсистом ковре лежал лохматый пес-манекен невнятной породы, что-то типа сенбернара. Папа смотрел телевизор, держа в руке бутылку пива, жена читала глянцевый журнал, дочка ела чипсы, листая книжку комиксов. Пес лежал, уткнувшись мордой в красивую жестяную миску с фирменным собачьим кормом. Там было тепло и уютно. Мягкий свет, мерцающий экран телевизора. Картина эта показалась Максиму знакомой, но где именно он все это видел, он никак не мог вспомнить. Неожиданно нестерпимо захотелось оказаться внутри. Он обвел полузакрытыми глазами тротуар. Никаких подходящих предметов. Разве что… мусорная урна у входа? Максим обхватил урну и, пошатываясь, оторвал ее от земли.
— Я, блядь, Геракл! — хрипло крикнул он, напрягая остатки сил и поднимая урну над головой. — Отрывающий, мать его, Антея от земли.
На этих словах он швырнул «Антея», временно принявшего облик мусорной урны, в витрину. Стекло лопнуло, брызнув осколками на тротуар. Максим замотал головой, стряхивая осколки с волос. Завыла сигнализация. Не обращая на нее никакого внимания, Максим, кряхтя, вкарабкался внутрь гостиной. Пошатываясь, добрел до дивана. Забрал у папы-манекена бутылку с пивом. Как ни странно, пиво было настоящим. Потом взял отца семейства за голову и отбросил куда-то вглубь салона. Плюхнулся на диван между «дочкой» и «женой». Нащупал в кармане зажигалку и открыл пиво. Глотнул. Теплая, зараза, но все же пиво.
«Водка, текила, пиво, — пронеслось в голове. — Отвратная комбинация при моем-то сердце. Да и хрен с ним…»
Максим откинулся на кожаную спинку дивана и уставился в плазменный телевизор. Что он смотрит, он и сам не очень понимал — кажется, какой-то сериал. Максим покосился на «жену». Она невозмутимо смотрела в журнал. Потом повернул голову и посмотрел на «дочку». Снова хлебнул теплого пива. Затем погладил пса. Провел кончиком языка по верхним зубам, цыкнул, достал сигарету и невозмутимо закурил. Затянулся и выдохнул струю сизого дыма. Пепельницы нигде не было. Потом постучал указательным пальцем по сигарете, сбрасывая пепел прямо в мягкий ворс огромного белоснежного ковра. Манекены продолжали неподвижно сидеть. Только сейчас к его плавающему в алкоголе мозгу прорвался, словно из другого измерения, вой охранной сигнализации. Сначала Максим не обращал на него никакого внимания, пытаясь сосредоточиться на сериале, что шел по телевизору, но звук этот неумолимо рос, ширился и наконец впился безжалостным сверлом в висок, буравя черепную коробку.
Максим, поморщившись, отхлебнул пива.
— Серость не хочет быть серостью, — внятно произнес он куда-то в пространство перед собой. — Она создает мир серее себя… Чтобы оправдать свое существование… Так и идет все по спирали… А потом серость съест всех. Ам!
На «ам!» он вдруг вздохнул и, почувствовав какой-то укол в груди, обессиленно уронил голову, чувствуя, что сам превращается в безжизненный манекен. Вокруг стало тихо и темно.
«Темнота — черная, — подумал Максим и мысленно улыбнулся. — Хорошо, что не серая».
В груди снова что-то кольнуло, и в голове у Максима почему-то пронеслось самое начало книги Блюменцвейга — такое ласковое и ностальгическое:
Ах, Привольск-218, Привольск-218… С грустной улыбкой вспоминаю твои кривые мощеные улочки, зелень кипарисов на центральной улице, шум морского прибоя и теплый южный ветер…
Потом боль в груди отпустила, и стало легко.
Очень легко.
Слишком легко.
Примечания
1
Стихотворение Альфреда Хаусмана "Infant Innocence": The Grizzly Bear is huge and wild; / He has devoured the infant child. / The infant child is not aware / It has been eaten by a bear (Перевод автора.).