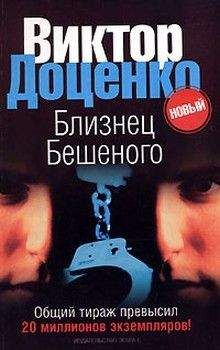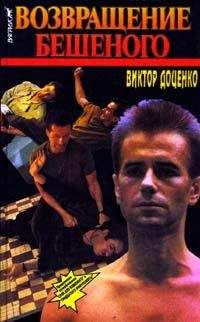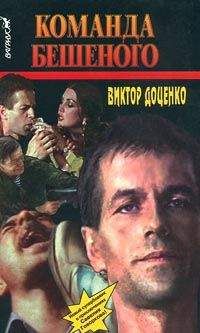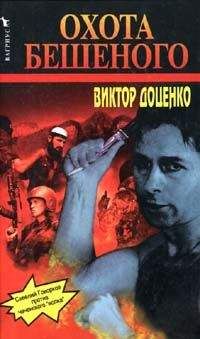Дмитрий Вересов - Сердце Льва
— Андрюша, а я в положении, — сказала, улыбаясь, Анжела и для вящей убедительности погладила себя по животу. — Это у меня первая беременность, и прерывать я ее, естественно, не буду. Рожу тебе ребеночка, мальчика, на тебя похожего. Ты рад? Ну иди же сюда, поцелуй свою верную женушку…
Так и сказала, на полном серьезе — «верную женушку». 0-хо-хо! Может, пока не поздно, броситься к ногам Семенова, повиниться истово, покаяться и пустить горючую слезу, скупую и революционную: «Дяденька главный проктолог ВВ, прости засранца! И определи служить конвойным прапорщиком! Не надо по двенадцатому разряду, главное, куда-нибудь подальше. От водного института и дуры Анжелки, которая от меня в тягости…» В леса, в тайгу, в болото, на съедение комарам. Тоже не выход. Ну и ситуевина!..
— Ишь ты, нацарапали чего. — Тим между тем достал лист бумаги и с пылом истового ученого принялся копировать написанное. — Еще и грозятся, падлы. В общем, за точность не ручаюсь, но получается что-то вроде: «Здесь весьма хреново», а насчет закорючек с саблями завтра посоветуюсь с Махрей. Есть там у нас одна девушка ученая с железобетонной целкой. Не желает работать трещиной, пусть шевелит извилинами. Ну, брат, давай закрывать, советским детям это не надо.
Полночи они вгрызались в стену, макали в воду шипящее сверло, страшно матерясь, стучали молотками. Наконец человеческий гений победил — плакатик повис. Неизвестно, надолго ли, зато идеологически ровно. Никаких уклонов, а главное, никакой латыни.
На следующий день после третьей пары Тим разыскал Махрю, тощую, угловатую девицу с большими грустными глазами и солидным крючковатым носом. Сидя на диване в курилке, она, подобно молодому Цезарю, делала сразу три вещи: яро смолила «Шипку», ела бутерброд с колбасой и вдумчиво штудировала «Историю» Геродота. С первого же взгляда любому здравомыслящему человеку становилось ясно, что общаться с ней куда приятней на вербальном уровне, нежели на гормональном.
— Здорово, Махря, — сказал Тим, усаживаясь рядом. — Бутерброд с колбасой? Поздравляю, вкусно, питательно, полезно. Адекватно для корректного пищеварения.
Сам он только что умял в столовой двойное пюре с котлетами и чувствовал себя добрым и одухотворенным.
— Ни черта корректного. Сплошной крахмал. — Махря закрыла книгу, выщелкнула окурок и, ухмыляясь, взглянула на Тима. — Здорово. Что-то я не вижу пряников.
— Да я, солнце мое, не заигрывать пришел. — Тим тоже усмехнулся, вытащил свои, «Союз-Аполлон», галантно угостил Махрю. — По делу. У нас ведь кто всех пригожей и мудрей? То есть кто у нас и умница и красавица? — Подмигнул, вытащил бумажку со вчерашними письменами, развернул и небрежным жестом отдал Махре. — Не знаешь случайно, что бы сие значило?
— Что-что, латынь, благородный язык Вергилия и Нерона. — Махря положила книгу на диван, а полусъеденный бутерброд на обложку книги. — Тереблис
Глокус ист, то бишь ужасно это место… А здесь, с кинжалами, вроде бы похоже на язык Иосифа Флавия, ну да, точно, это иврит. Слушай, есть у меня сионист знакомый, когда-то ходили на зигелевские чтения. Подождешь пару дней? Я тебе позвоню.
— Спасибо, солнце мое. И не звони мне, я живу по чужим людям. Сам найду тебя. Чао.
Место встречи изменить нельзя; Спустя два дня Тим нашел Махрю все на том же диване, правда, на этот раз со «Стюардессой» в зубах и за чтением занимательнейшей «Географии» Страбона.
— Привет, солнце мое. Ну что, общалась приватно с сионистом?
— Общалась, уж так общалась — с тебя, Метельский, молоко за вредность.
Махря оглушительно закрыла книгу, бросила окурок в урну и, вытащив из кармана «коровку», по-братски поделилась с Тимом.
— На, кошерная… В общем, вначале сионист меня чуть не прибил за оскорбление в лучших чувствах, потому как буквы на иврите означают имя Божье, а что символизируют мечи, понять несложно — секир башка. Потом, правда, сменил гнев на милость и раскололся. — Махря прожевала конфету и требовательно протянула тощую, с длинными пальцами руку. — Мужчина, не угостите папироской? Мерси… Ну так вот, каббала, тайное учение иудаизма, оперирует десятью именами Бога, и это, третье, самое загадочное и могущественное, истинное значение его неизвестно. И рубить его шашкой — значит, отрицать вселенское устройство. — Она затянулась, далеко выпустила дым и вдруг фыркнула по-кошачьи. — То есть, отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног… В общем, сионист жутко ругался, и не думай, что на иврите.
Тим из благодарности курнул вместе с Махре и похвалил ее плюшевые, ядовито-фиолетовые штаны и с поклоном отчалил до дому, то бишь на Фонтанку. А там царила кутерьма — в старшей группе гавк-нулся радиатор отопления, видимо, уж слишком развели пары в честь годовщины Октября. Было очень жарко, шумно и мозгло. Словно в долине гейзеров. Персонал эвакуировал детей, те немилосердно орали, зато Андрон застыл как изваяние, мокрый, невероятно злой, укутав батарею дымящимся матрасом. В нем было что-то от Александра Матросова, героев молодогвардейцев и бравых моряков, отправивших к Нептуну свой эсминец «Стерегущий».
— Столбом не стой, кантуй вторым слоем, такую мать, — сказал он проникновенно Тиму, выругался, сплюнул и повысил голос. — Александра Францев-на! Ну что там «аварийка», едет?
— Андрюшенька, занято у них, короткие гудки, — плачуще, с надрывом отвечала заведующая, и в голосе ее слышалась мука. — Ты уж держи, не отпускай. Господи, ведь только новые столы завезли, гэдээровские, из массива! Все, все, к едрене матрене, к чертовой матери!
— Иду, брат. — Андрон порывисто вздохнул, обреченно сгорбился и, шлепая по остывающему кипятку, принялся сражаться со стихией.
Будто в парилку попал. Адом, напоминающий то ли Сандуны, то ли сумасшедший, все ходил ходуном, обдавал горячим паром, оглушал суетой, неразберихой и истошными криками. И впрямь, terribilis est locus iste.
Хорст (1969)
В Москву Хорст прибыл как вестник от махатм, не пожалевших некогда землицы для брата своего махатмы Ленина. Пришел пешком, босой и налегке, назвавшись скромно — гуру Рама Кришна с холодной головой, горячим сердцем и чистыми, ловко жестикулирующими руками. Но отнюдь не с пустыми, с еще одной порцией земли для незабвенного махатмы Ильича. В большом, отливающем великолепием золота и разноцветьем бриллиантов ларце. Только какая дорога может быть без добрых попутчиков? Херр Опопельбаум мастерски изображал ученого сагиба-переводчика, а оберштурмбан-фюрер Ганс — свирепого телохранителя-сикха. Спектакль был еще тот — на древнем, непереводимом санскрите, под бряцанье булатного талвлара и мерное постукивание четок, перебираемых ловкими, крашенными хной пальцами Рамы Кришны. А сами четки-то, мать честна, из драгоценнейших черных жемчужин! Казалось, на берегах Москвы-реки повеяло дыханием Ганга, загадочным, таинственным, полным очарованием востока. И естественно, что вначале по-простому не получилось — пресса, органы, ученая братия, общество дружбы, пионеры. Однако операция была спланирована тщательно, с тонким знанием человеческой психологии — недаром говорят французы: чтобы остаться в тени, нужно встать под фонарь. К тому же выяснилось, что сундучок с землей просто позолоченный, с фальшивыми бриллиантами, сама земля — вульгарный перегной, а гуру Рама Кришна редко моется, чудеса не практикует и выражается лаконично, по-спартански — все «ом» да «ом» по любому поводу. Правда, на приеме в Кремле он все же разговорился и, приложив руки к сердцу, троекратно повторил:
Харе рама, харе Кришна,
Харе Кришна, харе Рама,
Ом намах Шивайя.
Первоначальный жгучий интерес к Хорсту и компании быстренько угас, сменившись лицемерно-злобным равнодушием казарменного гостеприимства раз уж спустился со своих Гималаев — живи, только дыши в духе советско-индусской дружбы. Но продолжали докучать пионеры, их простодушную настойчивость можно было понять: всех иностранцев распугал грохот танковых гусениц по пражским мостовым. Остались самые стойкие — ну Долорес Ибаррури, ну Фидель Кастро, ну еще кто-то с бородой и без. А тут — живой йог. Отвадили детей путем обмана, сказав, что гуру подался в дхьяну, и душа его в Арупалоке разговаривает по душам с Брахмой. Вернется не раньше, чем через неделю. Поверили наивные дети, поверили, отдали оберштурмбанфюреру Гансу салют, повязали пионерский галстук херру Опопельбауму и ушли под барабанный бой. А Хорст тем временем подался — нет, не в дхьяну, — в ванну. Долго мылся, стригся, брился и принялся готовиться к продолжению операции. Ему предстояло перевоплотиться в озеленителя Артамонова. Мысли о том, что его могут хватиться, не волновали Хорста — пионервожатая наверняка стучала не на барабане. Пусть чекисты думают, что в параллельном пространстве. Если что — херр Опопельбаум прикроет, навешает им лапши насчет телепортации и многомерности миров. Пусть ищут.