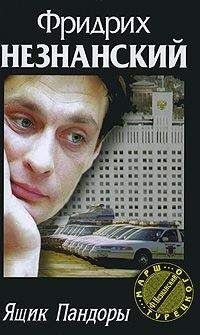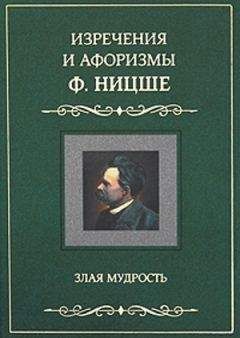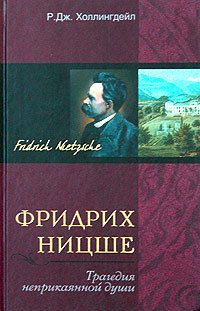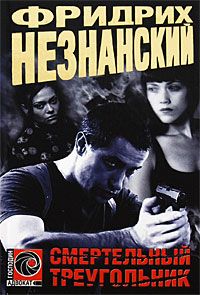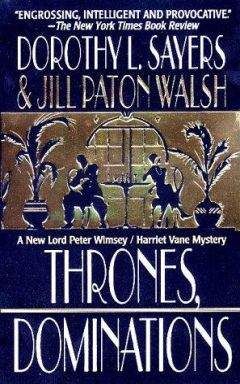Фридрих Незнанский - Бубновый валет
…Эта комната казалась необъятной, строгой и очень светлой. Сюда она приходила, держась за ручку мамы, в то сказочное время, когда все еще были счастливы. И мама, и папа, и старший брат Гельмут. И дядя Бруно. Когда они в первый раз вошли в этот дом, дядя Бруно показался огромным, как медведь, и Лили спряталась за материнскую юбку. Но Бруно расшевелил ее. Он показал, насколько он добр и забавен, сколько знает уморительных стихов и веселых фокусов. И позировать оказалось совсем не трудно, легче, чем она ожидала. Когда дети уставали, ее с Гельмутом посылали поиграть во дворе. Двор был скучный, Фимины дети не говорили по-немецки и смеялись, издали показывая пальцами на Гельмута и Лили. Они скоро убегали обратно к маме, но дверь в комнату Бруно почему-то всегда оказывалась заперта. Почему они запирали дверь?
Папа никогда не играл с Лили, потому что ему было некогда: он всегда был занят на службе, ведь он был военный. Но папа гладил ее по голове, и сцеловывал слезы с ее щек, когда она плакала из-за ссоры с братом, сломанной куклы или разбитой коленки, и приговаривал, что она его душка, его беленький цветочек лилии и что папа будет всегда ее крепко любить. И Лили верила, что так и будет.
Маме она не верила. Точнее, постепенно перестала верить. Она частенько наблюдала, как мама ссорится с папой, и всегда была на стороне отца, хотя ее, малютку, никто не спрашивал. Мама, несмотря на то что проводила время в повседневных заботах о них, детях, всегда казалась Лили далекой и красивой, как артистка на афише кино, как голубая звезда на ночном небе. А после встречи с Бруно она стала отдаляться все сильней и сильней. Она часто уходила из дому среди дня, когда папа был на службе, а приходила раскрасневшаяся и какая-то иная. В чем иная, девочка не могла бы сказать, но не исключено, от нее по-другому пахло. Дети, как животные, улавливают мелочи, которые не в состоянии объяснить.
— Мама, — допытывалась Лили, — ты снова идешь гулять? Возьми меня с собой!
— Прекрати ныть! Я иду позировать дяде Бруно.
— А почему мне туда нельзя?
— Потому что тебя он уже написал. А сейчас пишет мой новый портрет.
Лили не понимала: зачем нужно столько портретов? И если мама будет позировать, почему Лили не может тихонько постоять рядом и посмотреть, как рисует дядя Бруно? Раньше он это позволял. Так надоело все время сидеть дома!
— Мама! Не оставляй меня!
Но она оставляла. Она уходила к этому, к Бруно. Девочка не понимала природы своего чувства, а на самом деле начинала ревновать.
А потом случилось то, что случилось. Гибель. Это связано с концом войны, но произошло раньше, чем кончилась война. В одно прекрасное солнечное утро папа достал Лили из кроватки, долго целовал и гладил ее длинные светлые волосы. Гельмуту пожал руку и потрепал по щеке. А потом ушел навсегда.
Ее и Гельмута увели из дома и, как она запомнила, держали в каком-то длинном полутемном коридоре, куда свет проникал через единственное окно под потолком. Им не давали есть. А у Лили от голода подводило живот, так хотелось молока и теплой булочки! Но на это они теперь не имели права как дети предателя. Гельмут сказал, что папа предал арийский народ и теперь его повесят. Он помогал скрываться еврею. Его заместитель, майор Отто Дайслер, узнал об этом и хотел разоблачить коменданта-предателя, но папа выстрелил из пистолета и убил Дайслера.
— Мы видели этого еврея, — сказал Гельмут. — Это Бруно. Художник Бруно.
«Он великий художник», — будто бы сказал папа перед тем, как выстрелить. Как будто это все объясняло. Это ничего не объясняет, даже для нее взрослой. Из-за того, что он великий художник, уступить ему жену, погубить семью? Папа был благородным человеком. Слишком благородным.
Брат и сестра обнялись. Прежде они никогда не обнимались: мешала разница в возрасте и скрытое соперничество за родительскую любовь. Но в трудную минуту хотелось слиться, сжаться в один общий тесный комочек. В этом жестоком мире у них больше никого не было, они остались вдвоем.
Художник Бруно! Ты, который отнял у детей сначала мать, потом отца! Пусть тебе не живется на земле спокойно! Пускай самая страшная жизнь и самая страшная смерть постигнут тебя! Такие проклятия призывала на твою голову маленькая девочка со светлыми, как у Марианны Штих, волосами. Распущенными, потому что косички ей больше некому было заплести.
Что было потом, она не помнит. Все-таки была еще мала. Провал в воспоминаниях. Воспоминания такого возраста представляют собой не цепь последовательных событий, а череду ярких вспышек, бросающих отсветы в темноту. Куда их повели из этого коридора? Куда девался ее брат? Лили не знает. Впрочем, она теперь не Лили.
Маленькая девочка со слипшимися от грязи волосами, отчаянно перепачканная, но все равно хорошенькая, испуганно плакала среди пепелища: когда советские войска отбивали Львов у гитлеровцев, бои гремели суровые, город сильно пострадал. Никто не остановился, чтобы утешить и накормить ее: у всех своего горя хватало. Никто не потрудился выяснить, что она немка: детский плач звучит интернационально. Так она бродила и ревела, пока теплая рука не утерла ей замурзанную мордашку:
— Чого рюмсаешь, га? Ах ты ж, гирка сиротина! А яка ж ты в мени файна дивчинка! А як же ж ты на мою Ганечку схожа! Ходимо до мене, солодашко моя!
Если бы не совпадение, которое привело в это время и место женщину, потерявшую на днях ребенка, судьба Лили могла сложиться по-другому, и, наверное, худшим образом. На счастье, смерть скончавшейся от скарлатины Гани Полещук, ее ровесницы, зафиксировать в документах из-за военной неразберихи не успели, а маленькие дети очень похожи. Прибавим, что маленькие дети — гениальные лингвисты. К восьми годам, времени поступления в школу, девочка повсюду представлялась Ганей и болтала по-украински не хуже многочисленных подружек.
Но Лили внутри Гани не умерла. Она не забыла страшную судьбу своих родителей и взывала о мести. Едва подросла, она стала расспрашивать о художнике Бруно. Не странно ли: разыскивать не мать, не брата, а именно его? Не исключено, когда мы молоды, ненависть служит лучшим стимулом к действию, чем любовь… На вопрос, почему она интересуется Бруно, отвечала, что, когда она была маленькой, этот белоглазый человек очень ее напугал и хочется знать, до сих пор ли он такой страшный. Ей посоветовали умерить любопытство и не произносить имени Бруно Шермана. Пусть не сомневается, он свое получил. Она струсила и притихла. Времена, как доказывают недавно открытые документы, были людоедские: если гитлеровцы забирали только евреев и коммунистов, то представители советской власти арестовывали безо всякой логики, непонятно, кого и за что. Отсутствие общедоступных оснований арестов вызывало трепет. Все трепетали, и в то же время ходили на демонстрации под красными флагами, и выкрикивали лозунги, прославляющие партию Ленина — Сталина и социализм, и радовались, и Ганя-Лили радовалась, что ей, дочери фашиста, посчастливилось жить в СССР. Непостижимое все-таки существо человек!
А пролил свет на историю ее матери и художника Бруно один львовский житель, который после смерти Сталина вернулся в родной город из далеких краев. Ганя в то время уже учила детей в начальных классах чтению и письму и собиралась замуж за пригожего чернявого Степана Шерстобита. Она расспрашивала бывшего узника, не надеясь на удачу, по усвоенной за много лет привычке, почти не желая ворошить прошлое. Но он, сухой и позеленевший, похожий на покрытое мхом дерево, сам спешил поделиться тем, что наболело.
Один наблюдательный, но, должно быть, недобрый философ изрек, что признаками цивилизации повсюду являются кабак, тюрьма и кладбище. Но если выпить и перекусить обыкновенному гражданину требуется часто, если кладбище он посещает хотя бы в честь похорон родственников и знакомых, то о тюрьмах родного города, как правило, добропорядочный житель представления не имеет. Если так, то он — счастливый человек. Марек Вишневский о себе этого сказать не мог. Цивилизованность родного Львова Марек испробовал собственными боками, истертыми о кирпичи тюрьмы, возведенной еще в средние века. Католику Вишневскому тюремная камера последнего года войны, должно быть, и перед смертью вспомнится как одно из отделений чистилища. Тяжелый, влажный, как в бане, воздух, сыростью оседающий на стенах; набитые, точно шпроты в банку, люди, которые ругаются, молятся, плачут, проклинают, просят выпустить, просят есть, испражняются, потеют… На первый взгляд они казались сплошной человеческой массой, постепенно глаз начинал выделять из нее личности и характеры.
Бруно сидел с ним в одной камере львовской тюрьмы вскоре после того, как русские выбили немцев из города. Да, конечно, Вишневский догадался, о ком говорит паненка: такие глаза — примета запоминающаяся. Был ли этот человек художником, Вишневский сказать не может, по крайней мере, в камере ничего не рисовал. Да, Вишневский уверен: его звали Бруно. Обычно медлительный, спокойный, невозмутимый, но с вспышками внезапной вспыльчивости. Говорили, что его поймали в горах, куда он сбежал вместе со своей любовницей, немецкой шпионкой, чтобы устраивать диверсии против мирного населения и подрывать на Западной Украине советскую власть. Бруно все отрицал. Говорил, что это чушь, что они сбежали от фашистов из-за угрозы разоблачения: он — скрывавшийся всю оккупацию еврей и она — немка. Ему не верили. Любовницу Бруно Вишневский ни разу не видел: ее содержали в женском отделении тюрьмы. Это из-за нее первые дни своего пребывания в тюрьме белоглазый то и дело впадал в ярость и принимался колотить кулачищами в железную дверь камеры: