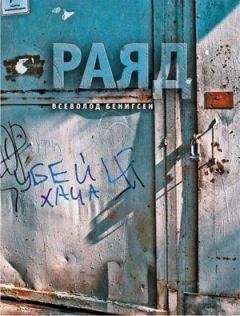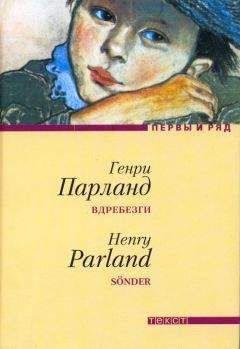Всеволод Бенигсен - ВИТЧ
Куперман задумался. Максим воспользовался паузой, чтобы слегка сменить тему. Тем более он чувствовал, что надо оттянуть время, дать Куперману задуматься, иначе будет сплошное «нет, нет, нет».
— И чисто человеческая просьба, Семен. Видишь ли, я сейчас пишу книгу о «Глаголе». Если ты помнишь, это…
— Да-да, — нетерпеливо перебил его Куперман. — Альманах. Наш диссидентский. Конечно помню.
— Ну вот. В общем, мне нужно взять интервью, кое о чем расспросить… Тебя, Авдеева, Файзуллина…
— Файзуллин умер, к сожалению. Да и Авдеев давным-давно скончался. Спился. С горя.
— И Авдеев? Жаль… Ну, тогда… остаешься ты.
— А это что? Это все в рамках вот этого…
— Нет-нет, это моя личная инициатива. К Привольску это не имеет прямого отношения. Но в некотором роде у этих тем общий знаменатель.
— Понятно, — сказал Куперман, уставившись взглядом куда-то в стену. Потом задумчиво добавил: — Канализация на прошлой неделе рванула, все говном залило…
— Ну, вот видишь! — обрадовался Максим. — Своими-то силами не справитесь.
— В общем, так, — стряхнул задумчивость Куперман. — Мне нужно время. Посовещаться.
— Это сколько? — встревожился Максим.
— Неделю как минимум. Надо все обсудить, взвесить… Оставь свой телефон. Я сам с тобой свяжусь.
— А интервью?
— Давай так. Если мы согласимся, ты так и так приедешь. А если мы откажемся, ты приедешь просто ради интервью.
— Идет, — кивнул Максим и быстро начеркал на сигаретной пачке свой номер телефона. — Буду ждать звонка. Если да, мы приедем.
— Опять «мы», — поморщился Куперман.
— Ну слушай, я же не руковожу этим проектом. Надо мной люди… точнее, человек… он это… помощник президента по культурным вопросам.
— Ты ему доверяешь?
— Да, — кивнул Максим, понимая, что честность со всеми ее тонкостями и рефлексиями будет здесь неуместна.
— Эх, Максим, — поддавшись невесть откуда взявшейся ностальгии, сказал Куперман. — А помнишь, как мы ездили на Валдай, а? Гитары, горы, костер, лес, ночь…
— Да, — односложно ответил Максим, хотя никогда не был на Валдае и терпеть не мог всю эту турпоходную романтику. Что самое интересное, он сильно сомневался, что и Куперман куда-то ездил. С Семеном они познакомились на выставке художника Мякишева, которого Куперман обругал именно за пейзажи, сказав, что природа — худшее, что создала природа. Этот афористический бред Максим запомнил на всю жизнь.
— Здесь в лагере я часто думал о Зойке, — сказал Куперман куда то в пустоту. — Или Зинке…
«Какой Зинке? Какой Зойке?» — мысленно заметался Максим, испугавшись, что Куперман тоже рехнулся.
— Нет, — уверенно сказал Куперман и поковырял мизинцем в ухе. — Зинка. Точно. И чего она нашла в Климове?
Тут Максим вспомнил, что, действительно, был в их студенческой компании такой лингвист-структуралист Климов, и у него была девушка по имени Зина. У Зины была внушительных размеров грудь (или, по чьему то остроумному определению, «запоминающаяся грудь»). Никаких других талантов за ней не водилось. И чего ее Куперман вдруг вспомнил?
Максим не стал спрашивать. Да он бы и не успел, потому что Куперман неожиданно кивнул ему на прощание и стремительно скрылся на территории лагеря. Бородатые охранники молча проводили Максима на выход.
После беседы с Куперманом у Максима так разболелась голова, что он вышел к Зонцу, слегка покачиваясь.
— Ну что? — спросил тот, заметно волнуясь.
— А хер их знает… Меня внутрь-то не пустили… Мы, говорит, последние из могикан, свидетели чего-то там…
— Чего?
— Истории. Истории они, понимаешь, свидетели.
— Мда-а? — хмыкнул Зонц. — А кто не свидетель-то? Все свидетели. Ладно, садитесь в машину. По дороге расскажете.
Максим покорно вскарабкался на сиденье и закурил.
В машине, как ни странно, голову слегка отпустило, хотя внутри что-то продолжало жужжать — какой-то надоедливый зуммер.
— А что еще говорил Куперман? — спросил Зонц, заводя мотор. — Сколько их там?
— Говорит, человек тридцать.
— Всего? Это хорошо. Это компактно.
— Еще плел про тюремную жизнь, про то, как он своими руками кого-то там хоронил, про творческие души, растоптанные советской системой. Разве что рубаху на себе не рвал.
— Ну а что с музеем-то?
— Сказал, что подумает.
— Серьезно?! — обрадовался Зонц.
— Неделю просил дать.
— Ну спасибо. Вот это хорошая новость. Я в вас не ошибся.
— Послушайте, — перебил возбужденного Зонца Максим, — я все-таки до конца не понял, что их там держит.
— Вас это сильно волнует?
— Вообще-то да. Люблю, знаете ли, ясность.
— Ясность или правду?
— А что, обязательно их противопоставлять? — раздраженно заметил Максим.
— Ладно, простите, — усмехнулся Зонц. — Но я действительно не очень знаю, в чем там дело. Меня лично больше волнует, согласятся ли они на наше предложение. А что там у них в голове…
— Жаль, что меня внутрь не пустили. Интересно было бы глянуть…
— С виду укрепления, конечно, суровые. Пока вы там сидели, я прошелся вдоль заборчика. Каждые двести метров вышка.
— Странная строгость для интеллигентных диссидентов, которые, в общем-то, ничего не совершили.
— А что Блюменцвейг?
— Ну, он у них герой. Единственный, кто осуществил побег. Кстати, я и насчет Кручинина спросил.
— И что?
— Да, кажется, он у них там тоже что-то вроде героя. Переметнулся на сторону узников, помог Блюменцвейгу бежать и все такое…
— Ну и хорошо, — неожиданно резюмировал Зонц и с довольным видом уставился на дорогу.
Максим хотел что-то спросить, но утренний недосып вкупе с нервотрепкой в Привольске дал о себе знать — Максим зевнул, прислонился виском к прохладному тонированному стеклу и, убаюканный тихим шелестом кондиционера, задремал.
Сон был какой-то невизуальный. Зато имел аудиосопровождение. Им было повторяющееся, как заезженная пластинка, стихотворение про медведя-нахала, сожравшего ребенка. В конце сна из темноты выплыла медвежья голова, причем безо всякого туловища, и сказала:
— Приехали, Максим Леонидович.
Максим вздрогнул и проснулся.
— Что?
Джип стоял на месте. Зонц курил, глядя через ветровое стекло куда то вдаль.
— Приехали, — повторил он, не поворачивая головы.
Максим вытер слюну, которую, видимо, пустил во
время сна, и приподнялся. Машина стояла у подъезда его дома.
— Да-да, — засуетился он, дергая ремень безопасности. — Я пойду.
Зонц помог разобраться с ремнем и открыл дверь.
— Я позвоню, — сказал он и протянул на прощание руку.
Максим пожал ее. Она была ни тепла, ни холодна.
XVI
На капризы привольчан майор Кручинин решил принципиально не отвечать. Таким дашь локоть, всю руку откусят. Но в январе 1980 года произошло ЧП, после которого майор задумался, не слишком ли он мягок. И не пора ли проявить настоящую строгость. Случилось это в субботу, когда народ, по идее, должен был отдыхать или творить. Сам майор никогда не отдыхал, просиживая за рабочим столом сутки напролет. Не потому, что был трудоголиком, а потому что начальство требовало бесконечных и подробных до тошноты отчетов. Вот и в это морозное утро он сидел, как обычно, в своем кабинете, сочиняя очередной опус на тему «никаких ЧП не произошло», когда к нему неожиданно без стука ворвался взволнованный Чуев и сиплым голосом прокричал:
— Товарищ майор! Файзуллин разбился!
— Мать твою! — чертыхнулся Кручинин и, бросив все бумаги, рванул из-за стола за лейтенантом. Зацепился за край кителем. Китель хрустнул, но выдержал.
— Да е-мое! — выпутался наконец майор.
На бегу накинул пальто и шарф. И попытался выяснить детали.
— Как разбился-то? Из окна, что ли, выпал?
— Да не, — махнул рукой Чуев. — Сделал этот… дельтаплан и на нем полетел.
— Какой еще в жопу дельтаплан?
— Обыкновенный. Железяка с крыльями.
— А куда полетел? В магазин, что ли?
— Шутите, товарищ майор! Через забор полетел, конечно.
— Побег, значит?
— Вроде того. С крыши института сиганул.
— Вот дебил! — сплюнул Кручинин.
Они выбежали на улицу. Снег искрился и слепил глаза. Майор поскользнулся и едва не упал, но, изогнувшись всем телом, словно цирковой эквилибрист, устоял. Чуев бросился по скрипучему снегу в сторону НИИ. Майор, чертыхнувшись, побежал следом. На ходу стал прикидывать свое будущее.
«Скрыть смерть, конечно, не удастся. Придется докладывать начальству. А это значит что? Недоглядел, товарищ Кручинин. Недосмотрел. Недоработал. И полугода не прошло, а уже первый труп. Ай-яй-яй. Мошкин доложит генералу Валяеву. Все повесит на меня, конечно. А Валяев меня на дух не переносит. Вызовет в Москву. Там начнут рыть личное дело. Вспомнят диссидента Кузьменко, которого я обрабатывал и который под машину попал. Снова начнется нудятина: "Случай, конечно, несчастный, но Кручинину советовали арестовать Кузьменко, а он отказался. Теперь Кузьменко погиб, и западные голоса подняли вой: убили! Сбили, как Михоэлса! Длинная рука КГБ!" Ха! Можно подумать, что, если бы я его арестовал, не было бы воя. Но теперь, конечно, снова несчастного Кузьменко приплетут. И попрут меня. Попрут как миленького».