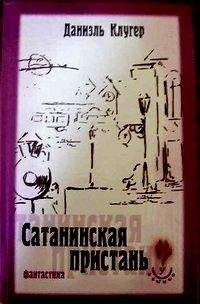Александр Бушков - Второе восстание Спартака
– Три шага до бочки, сел на нее и сиди, не шути.
– У тебя пушка, куда мне шутить. – Марсель сел на бочку. – Закурить можно, начальник?
– Ты что, связался с этой националистической мразью? – спросил Комсомолец.
– О чем ты?
– Дурака не валяй, ладно? Мы сейчас пока говорим как соседи.
– А дальше что бум делать, сосед? – Марсель закурил. – Когда поговорим...
– Там видно будет, – Комсомолец опустился на автомобильную шину, положил руку с револьвером на колено.
– Не, правда, такого просто быть не может, – всплеснул руками Марсель. – Еще не хватало Спартаку здесь оказаться для полного Дюмы!
– Ты не ответил на мой вопрос об ОУН.
– Слушай, сосед, если ты на мне хочешь новые ромбики в петлички заработать, привести к своим не просто задержанного, а во всем сознавшегося и раскаявшегося преступника, то не трать время, – Марсель перестал дурачиться, заговорил серьезно. – Ты лучше других знаешь, что я свой путь выбрал. Хороший он или плохой, поговорим лет эдак через ...дцать. Но я выбрал, понимаешь, и переигрывать не стану. Поэтому не трать время на пустые разговоры. Что перекурить на воле разрешил, за то мерси, а теперь веди, сдавай меня под опись.
– Я тебя не пытаюсь расколоть, сосед, – Комсомолец тоже был серьезен. – Мне, лично мне нужно это знать. И дальше меня не пойдет, даю слово. Ты тоже меня знаешь и мое слово знаешь.
– Знаю, – раздумчиво проговорил Марсель, внимательно глядя на собеседника. – Раз так тебе это нужно знать... Большой тайны тут нет. С ОУН я связан не больше, чем с тобой. Даже меньше. Просто мы пытались договориться и не оттаптывать друг другу ноги. И уже почти договорились, да вы помешали. Доволен, сосед?
– Доволен, доволен...
* * *Только сейчас Спартак обратил внимание, что Беата пытается высвободить руку из его ладони, которую он сжимал чересчур сильно. Да, на некоторое время он потерял над собой контроль. И это если не простительно, то объяснимо. (Но девочка-то какая молодчина! Не пикнет, не вякнет, не шикнет! Понимает, что любой мало-мальский звук сразу привлечет внимание.)
«Невозможно, немыслимо, такого не бывает!» – вот что назойливо вертелось у Спартака в голове. И мучительные гамлетовские сомнения: выйти к ним или не выйти? Если б не Беата – вышел бы, не раздумывая. А так – продолжал слушать разговор соседей по коммуналке, вдруг вошедших на тупиковый и заброшенный задний дворик полупритона-полуресторана в городе Львове. Немыслимый бред, фантастическое совпадение. Ну Марсель – ладно, куда только не закинет воровская фортуна... Но Комсомолец?! Мама в последнем письме вроде упоминала что-то насчет того, что правильный сосед ушел из райкома комсомола и теперь подвизается на ниве НКВД... однако встретить обоих в не до конца советском Львове?! Не бывает такого...
Вдруг Спартак вспомнил где-то вычитанную мысль. Точно процитировать не мог, но смысл пассажа заключался в следующем: есть некий предел, выходя за который вещь превращается в свою противоположность. А с позиций сегодняшней ночи можно сказать так: случайность бесспорно перешла некий предел, а противоположность случайности – закономерность. Выходит, их львовская встреча закономерна и содержит в себе какой-то смысл, до поры неясный.
«Так и до метафизики докатишься, летчик, надо срочно тормозить...»
* * *– Доволен, – еще раз повторил Комсомолец. – Раз ты не имеешь к ОУН прямого и непосредственного отношения, то давай расходиться. Пошли, я тебя выведу за облаву. И катись на все четыре.
– Ты это серьезно? – опешил Марсель.
– Серьезнее некуда. Не рассиживайся, некогда.
– А как же ментовский долг, не говоря уж про должностное преступление?
– Не твоя забота.
– Нет, правда, скажи, – настаивал Марсель, – если ты всерьез, то зачем помогаешь?
– Можешь мне не верить, но я и сам над этим ломаю голову – зачем...
* * *– Ушли, – сказала Беата. – Какой странный у них разговор был, правда? Русский я знаю не хуже твоего, но я мало что поняла. Да и пусть! Выждем минут десять и тоже будем выбираться, хорошо?
– Десять мало, – сказал Спартак, думая вовсе не о безопасности, а о лишних десяти минутах наедине. – Не меньше двадцати.
А потом и вовсе решился. Постоял малость перед прорубью – а как же Жорка, а как в гостиницу поодиночке пробираться, а как же завтрашний поезд в восемнадцать часов, прикинул все варианты – и прыгнул в ледяную воду:
– Беата, прекрасная вы незнакомка... Я понимаю всю абсурдность моего предложения, а также прекрасно осознаю, что ваш спутник наверняка будет весьма недоволен, если не он, а какой-то оккупант проводит вас сегодня до дому и будет защищать от прочих оголтелых оккупантов... Но! – тут у него сбилось дыхание. – Но, Беата, завтра у нас с приятелем поезд, мы возвращаемся по месту несения службы. И вряд ли когда-нибудь в ближайшее время сможем вернуться в этот прекрасный город... Беата! Позвольте назначить вам свидание на завтра... Ни к чему не обязывающее. Я просто хочу увидеть вас – и уехать. Может быть, навсегда.
Показалось, или шановна пани действительно улыбнулась в темноте?!
– Ну что вы молчите?.. – выдохнул он.
– Завтра у меня трудный день, – с ноткой неуверенности сказала Беата.
– Ну?!
– Ну хорошо. В два часа возле часовни Боимов, знаете такую?
– Не знаю, но найду!
– Просто короткий тет-а-тет двух случайных друзей, – определила она рамки. – Один, холодный, мирный...
Друзей! Это внушало оптимизм. А то, что пушкинский Дон-Гуан под словами: «Один, холодный, мирный», подразумевал отнюдь не тет-а-тет, вообще поднимало на крыльях.
В первый раз прыгая с парашютом, он боялся гораздо меньше, чем сейчас услышать ее «нет».
Она не сказала «нет»!
Глава седьмая
Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...
В могучем стремительном танке,
Душою изыскан и чист,
Слагает японские танки
Молоденький русский танкист.
Зовут его Гладышев Коля,
И служит он на Халхин-Голе,
Но нравится Коле и всё
Японский писатель Басё...
Была суббота. И настроение было преотличнейшее.
А с чего бы настроению быть другим? Дневная жара спала, наползал вечер, и вместе с ним приходила прохлада. А главное – трудовая летная неделя позади, позади тренировочные полеты, облеты советско-финской границы, патрулирование неба над Кронштадтом и Красной Горкой, теоретические занятия, отладка машин, ежедневные политзанятия и тэ дэ, и тэ пэ, впереди же – увольнительная до двадцати двух ноль-ноль воскресного дня. Короче, все воскресенье твое. Сие, правда, не касается того, кто остается на боевом дежурстве. А поскольку очередь Спартака заступать на «бэдэ» лишь в следующее воскресенье, то бишь двадцать девятого, так отчего ж не порадоваться жизни полной грудью и прочими фибрами организма!
Некоторый диссонанс в настроение вносила, конечно, львовская пани Беата, которая в душу запала, но Спартака обманула по всей программе. Он честно, как дурак, как условились, ждал барышню возле часовни Боимов с половины второго. Прождал до четырех. Нарушая запрет ходить поодиночке, комкая букет, поминутно сверяясь с часами, ревнуя и рисуя в воображении картины одну «адюльтернее» другой – но гордячка так и не явилась. А потом настала пора мчаться на поезд, опоздание было смерти подобно, да и Жорка места себе не находил, мечась по перрону. Успели. А в купе Спартак откупорил бутылку водки и... Ну и позволил себе расслабиться. И даже подрался в тамбуре с какими-то артиллеристами, еле растащили... В общем, глупо себя повел.
Знал же, что бабы – стервы, но вот почему-то купился на польскую пани...
Да ну ее к чертям поросячьим.
Спартак валялся на койке в кубрике (именно в кубрике! – летчики Балтийской авиации – краснофлотцы, а не какая-нибудь там пяхота) и перебирал гитарные струны. Вокруг царила, можно не бояться этого слова, праздничная суета: вот младший лейтенант Мостовой драит бархоткой форменные пуговицы, пыхтя так, будто завтра ему шагать в парадном строю перед вождями на Мавзолее; Жорка Игошев, товарищ по львовским приключениям, лежа на койке, тренирует карточные фокусы, чтоб завтра на пляже у Петропавловки развлекать крепкотелых загорелых девчат на соседних лежаках, а Джамбулат Бекоев, старательно шевеля губами, читает письмо из дома и то насупливает брови, то хмыкает, а иной раз и бьет босой пяткой по кроватной спинке, привлекая внимание лейтенанта Игошева: «Эй, Жорка, слушай!» – и выдает новости с родины...
Спартак любил эти субботние вечера не меньше, чем полеты. Ощущается эдакая приятная телу и душе истома. Как в песне на самой заезженной пластинке их патефона: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Оттого и самому хотелось петь.
Спартак вновь тронул гитарные струны: