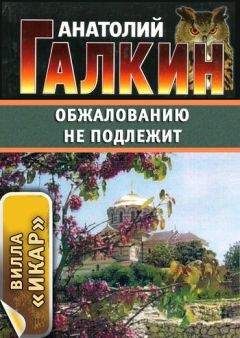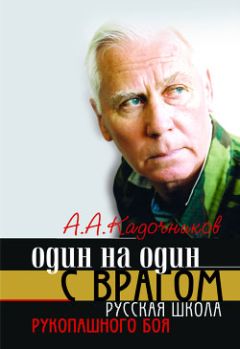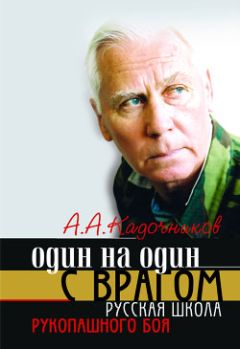Леонид Влодавец - Закон рукопашного боя
— Что вам угодно, гражданин? — спросила бабка строгим тоном.
— Извините, Анна Гавриловна, — вежливо произнес Птицын, — мне к вам порекомендовали обратиться. У меня в прошлом был закрытый перелом, а теперь вот нога изрядно мучит. Хотелось бы проконсультироваться.
— Извините, а кто вам порекомендовал обратиться ко мне?
— Рыжиков Андрей Михайлович.
— Ну, тогда проходите.
Птицын поднялся на крыльцо и скрылся внутри красивой избушки. Таран прислушался, но даже отголосков беседы расслышать не мог.
Прошло минут двадцать, может, чуть побольше, и, к вящему удивлению Юрки, на крыльце появился Птицын, несущий под мышкой увесистую темно-коричневую папку. За ним семенила бабушка Нефедова.
— Сердечно вам благодарен, Анна Гавриловна! — поклонился Генрих Михайлович с отточенной аристократической грацией.
Юрка, конечно, чинно дождался возвращения Птицына и, пока не тронулся с места, никаких вопросов не задавал.
— В магазин поедем? — спросил он у Генриха, когда тот, устроившись на заднем сиденье «уазика», развязал три черных тесемочки, на которые была завязана папка, стал наскоро просматривать многочисленные листы.
— Да-да, — пробормотал Птицын довольно рассеянным тоном. — Надя тебе же список написала, чего купить. Кстати, денег хватит?
— Хватит, — кивнул Юрка. — Надька все до копейки подсчитала. А цены покамест быстро не растут… Неужели та самая папка?
— Да, та самая! — не очень радостно подтвердил Птицын.
— Это ж надо! — Таран не сразу просек, что командир чем-то недоволен. — Там эти братки с ума сходят, глотки друг другу рвут, а папка-то вот она!
— Все верно, — вздохнул Птицын. — Папка-то вот она, только того, за что покойный Рыжиков хотел пятьдесят тысяч долларов заработать, тут нет.
— А что ж тут есть? — разочарованно произнес Таран.
— В сущности, беллетристика. Неопубликованная рукопись романа, сочиненного Полининым дедушкой по материнской линии. По-моему, что-то о 1812 годе…
— А почитать можно?
— В принципе да. Приедем домой, можешь взять. Читай, если не соскучишься…
Часть II
ТЫ ГУЛЯЙ, ГУЛЯЙ, МОЙ КОНЬ…
Повесть-сказ, сочиненная Б. С. Сучковым
КЛЕЩ НА ТРЕХ ГОРАХ
Утром 31 августа 1812 года на Трех горах, что за Пресненской заставою, было необычно людно. Группами и в одиночку, со всех концов Москвы, брели сюда разного звания люди. Шли крупные, уверенные в своей мордобойной силе охотнорядцы, лабазники, приказчики, каретники, кузнецы, гончары, суконщики, медники, ямщики и иные молодцы купецкого и посадского чина. Скромно пряча пятифунтовые гирьки и ножички под одеждой, приходили ватагами и ватажками лихие, хоронившиеся до времени в ночлежных домах и притонах. Подкатывали на своем выезде дворяне, окруженные десятком, а то и двумя конных холопов, при ружьях и пистолетах. Одни из благородных прибывали в сюртуках и цилиндрах, другие — в охотничьем, третьи — в мундирах екатерининских и павловских времен, с орденами и медалями за давние кампании. Из богаделен выбрались инвалидные старички, бывалые еще под Туртукаем и Очаковом.
Стволы, пики, вилы-тройчатки, косы, ухваты, кочерги и иное дреколье щетинились во все стороны. Неровный гул катился по толпе: кто-то степенно рассуждал, побили наши француза при сельце Бородине али наоборот; иные молились; третьи, подвыпив с утра, рвались идти куда-то, потрясали оружием, выкрикивали хулы на супостатов, а более трезвые совестили их и осаживали.
— Чего это деется? — спрашивал, крестясь, случайно затесавшийся в толпу молоденький тамбовский мужичок, нервно хлопая белесыми ресницами. — Куды все, с оружьем-то? Бунт, что ли, прости господи?
— Енерала ждем, — сплевывая семечную шелуху, солидно объяснил ему охотнорядский детинушка в канифасной рубахе, поигрывавший мясницким топориком весом в четырнадцать фунтов. Такими в прежнее время ссекали головы ворам на Болотной площади.
— А на что енарал-то?
— Дурак, что ль? — спросил охотнорядский. — Откудова ты?
— Тамбовские мы…
— Хрептуки степные, толстоногие… — презрительно хмыкнул охотнорядец. — Чего приперся?
— А все ишли, так и я тоже… Война, грят, дяденька?
— Эва, вспомнил! Война уж, почитай, третий месяц идет. А ты и не знал?
Посередине толпы стоял кряжистый дьякон с ломиком на плече и объяснял, что император французов есть посланник Сатаны и даже предсказан в Откровении святого Иоанна Богослова.
— И из дыма вышла саранча на землю… — вещал дьякон, но из-за спин и гомона тамбовский все услышать не сумел, разобрал только отрывки.
— …На ней были брони, как бы брони железные… У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала… Царем над собою имела она ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, сиречь — Губитель…
— Почтенные, — чуть выбравшись из гущи людей, спросил тамбовский, — кого бить-то будут?
— А мы не жадные, — с усмешкой поглядел на него какой-то кузнец, — кто попросит — тому и поднесем.
— Так ведь одни бают, енарала ждем, другие — Аполлиона… Кого бить-то? Енарала или Аполлиона?
— Тьфу, прости господи, — сказал молодой пономарь, как видно, явившийся вместе с тем дьяконом, что рассказывал про саранчу. — Генерал-то наш батюшка, Федор Васильевич Ростопчин, а Наполеон — супостат, Христа иудейскому синедриону продал.
— Чего-то мне твоя рожа не нравится! — прищурясь, на тамбовского поглядели три чисто одетых приказчика, а слова эти произнес солидных габаритов купчина с пистолетами, заткнутыми за кушак. — Не ты вчера за камкой лазал?
Тамбовский сжался, хотя ни камки, ни канифаса, никакой иной мануфактуры он не крал. На лицах всех, кто был рядом, отразилось злорадство: «Вора пымали!» Купец уже хотел было мигнуть приказчикам, чтоб вязали, но тут послышался чуть хрипловатый, но очень уверенный старческий голос:
— Не трожь! — к удивлению тамбовского, те, кто только что злорадно улыбался, предвкушая, как будут вязать и бить вора, начали понемногу разбредаться, а лица купчины и его краснорожих приказчиков сильно вытянулись и приобрели испуганное выражение. Вокруг откуда ни возьмись появилось с десяток очень неприятного вида людей, одетых в тряпье, обросших бородами, нечесаных, немытых, но крепких и жилистых. А за спиной тамбовского стоял высокий, плечистый, седой как лунь старик, из-под лохматых бровей которого задиристо поблескивали два злых и веселых глаза.
Купец с приказчиками беспрепятственно выскользнули из кольца этих людей, хотя и пятились, ожидая больших неприятностей.
— С нами пойдешь, — сказал старик, положив руку на плечо тамбовского.
Тот понял уже, что идти надо, никуда не денешься, но все же пролепетал:
— Я, дедушка, пойду, только ить к барину мне надо. Выпорет!
— Ежели придешь — так выпорет, а с нами пойдешь — нет, — сказал старик. — Пошли ты его, барина-то…
И сказал куда.
— Да нешто можно? — оторопело заморгал тамбовский.
— Теперь можно, — ответил дед, — а вчерась было нельзя. Ныне вон сам губернатор объявил, чтоб мужики на супостата собирались. Значит, слабо войско царское! Нас бить али Наполеона, а все одно слабо.
— А как звать-то тебя, дедушка?
— Крещен Андреем, а по прозванию — Клещ.
— А по отчеству?
— Не баре мы, чтоб с отчеством. Зови Клещом — не обижусь. Есть хочешь? На вот, пожуй хлебца…
Тамбовский поклонился, взял черную горбушку из рук старика.
— Благодарствуйте, дедушка. Бога за вас молить буду…
— Ладно, жуй, после помолишься. Звать-то как?
— Агапом, дедушка.
— Годов-то сколько тебе?
— На Пасху осьмнадцать было…
— Женатый?
— В том году на мясоед венчали, дите вот должно родиться.
— Мужик, стало быть, уже? Ну, добро… — Клещ поглядел на Агапа, будто бы вспоминая чего-то…
ИЗ ЖИТИЯ ГРЕШНИКА КЛЕЩА
Шестьдесят третий год топтал землю Андрюха Клещ. Где копытами коня, где каблуком сапога, где босой пяткой. А вот пахать ее не доводилось, и по сю пору не жалел об этом старик. Славил бога за то, что привел ему казаком родиться, да не где-нибудь, а на Яике, где издревле говорили: «Живи, живи, ребята, пока Москва не проведала».
А все-таки весело пожить довелось! Как оно лихо летело, золотое то и страшное времечко! Верилось — всегда так будет. Когда увидел впервые государя Петра Феодоровича — двадцати трех лет еще Андрюхе не было, — поверил! Царь! Чекмень огнем пышет, шапка набок свалена, а держится, голубая андреевская через плечо… Тысячи с ним шли, тысячи! Эх, не возиться бы тогда с Оренбургом, а махнуть бы за Волгу да на Москву! Про то и сейчас вспоминать досадно… И о том, как с визгом и бестолковщиной толпами перли на картечь, как гоняли их по степям Михельсоновы драгуны и гусары — тоже помнить тошно. Одно ладно — ушел, не поплыл на плоту с пенькой на шее, не забили в железа, не запороли кнутом. И раны заживали быстро, как на собаке, — молодой был! На Дон не пошел, потому что знал — выдадут. Давно те времена прошли, когда не было с Дону выдачи. Жалко было казачьей справы, а пришлось оружье и платье зарыть, одежонку с посадского человека, царицынского мещанина, снять, а самого… лишний был тот человек, хоть и не вредный. Наверно, мать у него была, отец, жена, дети, и жить ему зачем-то надо было, только вот Андрюхе его живым оставлять было не с руки. За тех, кого рубил, когда Петру Феодоровичу служил, душа не болела, а за этого… И по сей день не забывал свечки за упокой его ставить.