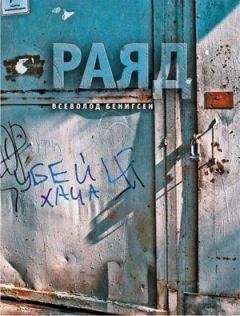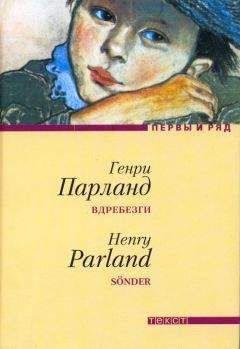Всеволод Бенигсен - ВИТЧ
Зонц усмехнулся и задумчиво потеребил кончик носа.
— Да. Блюменцвейг — в некотором роде исключение. Врать не буду. У нас имеется список всех сосланных в этот город. И в этом списке присутствует и Блюменцвейг. Но, к сожалению, нам не удалось выяснить, каким образом Блюменцвейг покинул лагерь. Возможно, вам, в смысле нам, удастся узнать это на месте.
— Я к тому, что если Блюменцвейг жив, то мы могли бы взять его с собой. Он был бы более убедителен, нежели я. Ведь он тем более знает всех, раз тоже был там. Только его тоже надо найти.
Зонц вздохнул, затушил сигарету и тут же вытянул из пачки новую.
— Когда-то давно, еще в девяностых, я работал в Министерстве культуры. К нам постоянно ходили какие-то деятели, которые просили то дать им помещение под театральную студию, то организовать какой-то фестиваль, то профинансировать какой-то проект. Среди прочих был и некто Блюменцвейг. Я его хорошо запомнил: нагловатый, нервный и слегка неадекватный. Он попросил дать помещение для репетиций его «Театра дегенератов». Я еще спросил, откуда такое странное название. А он сказал, что название не странное, а очень даже логичное, ибо труппа целиком состоит из дегенератов.
— То есть как? — изумился Максим.
— А вот так. У меня, говорит, в труппе дауны, олигофрены, дебилы — одним словом, полные и непроходимые идиоты с точки зрения вашего «здорового» общества. Есть даже один аутист. Кстати, гениально играет князя Мышкина. Он весь спектакль молчит, а текст идет закадровым, так сказать, голосом. В общем, после короткой, хотя и увлекательной беседы я отказал Блюменцвейгу. Но вовсе не из-за специфики театра, а просто потому, что мы тогда отказывали всем.
— И что? — спросил Максим, который под впечатлением от рассказа вспомнил знаменитую антисемит скую брошюрку Блюменцвейга.
— А то, что Блюменцвейг — сам псих. Деятельный псих. Я бы даже не стал ему ничего предлагать. Зачем? Полагаться на него мы не можем, а зря время тратить… Впрочем, если вам любопытно, я могу рассказать вам о нем побольше. И даже дать его координаты.
— Серьезно? — обрадовался Максим.
— Но прежде скажите, мы можем на вас рассчитывать?
— Ну конечно.
— Тогда я предлагаю отметить это скромное соглашение небольшим ужином. Признаться, я с утра ничего не ел. Как насчет итальянской кухни?
— Не имею ничего против, — пожал плечами Максим, который тоже почувствовал внезапный приступ голода.
— Отлично, — соскочил с подоконника Зонц. — Тогда по коням.
— Простите, а как называется этот город?
— Какой? А-а…
Зонц с легким прищуром посмотрел на Максима, словно не был уверен, можно ли тому доверять столь конфиденциальную информацию.
— Привольск.
— Привольск?
— Да. Привольск-218.
— А почему 218?
— Этого я не знаю. А вам что, не нравится число?
— Да нет… просто удивлен, что он с числом.
— Ничего удивительного. Закрытые города все имели числа. А этот к тому же был еще и лагерем. По совместительству, так сказать.
И Зонц улыбнулся своей обворожительной улыбкой, хотя в данном контексте она была довольно неумеек ной.
IX
Получив первую партию будущих жителей Привольска-218, майор Кручинин решил быка за рога не брать. И хотя следующий после приезда диссидентствующей интеллигенции день был пятницей, он распорядился не сгонять привольчан на работу сразу, а дать им освоиться, тем более все равно выходные на носу.
Некоторые, впрочем, начали осваиваться уже ночью в день прибытия. Так, переводчик Файзуллин вместе с поэтом Авдеевым под покровом темноты отправились изучать Привольск. Запрета на прогулки под луной вроде не поступало, поэтому бояться было нечего.
Файзуллин захватил карманный фонарик, который всегда таскал с собой. И даже отправляясь в Германию, он бережно упаковал его в чемодан. По этому поводу друзья шутливо спрашивали Файзуллина, не собирается ли он рыть подкоп под Берлинскую стену в обратном направлении.
Авдеев, уже слегка набравшийся непонятно откуда взявшейся водкой, покорно брел за Файзуллиным. При этом он почему-то пел «Лили Марлен», выдумывая на ходу следующий малосвязный текст:
— Мы теперь в Привольске, мы теперь живем… мы теперь гуляем, песенки поем… если увидит нас майор, то нас майор, то нас майор… как ту Лили Марлен… как ту Лили Марлен…
Через десять минут оба путешественника наткнулись на бетонную стену. Авдеев прекратил пение. Файзуллин с уважением пощупал холодный бетон и посмотрел в черное небо. Стена была метров в шесть высотой.
— Такую и захочешь — не перепрыгнешь, — сказал он и почему-то подпрыгнул — видимо, для наглядности.
— Ну почему не перепрыгнешь? — нетрезво откликнулся Авдеев. — С шестом, бля, вполне.
— Рекорд прыжков с шестом — пять с полтиной. Могу себе представить, как бы ты впечатался в эту стену со всей дури.
— А ты думаешь, что за стеной, бля, вольный ветер? — усмехнулся Авдеев.
— Да нет, наверное. Еще какая-нибудь стена.
В этот момент с другой стороны ограждения раздался яростный собачий лай. Файзуллин от страха едва не выронил фонарик
— Е-мое! Там, похоже, еще и овчарки.
— А ты чего хотел? — пожал плечами Авдеев. — Это ж, бля, лагерь.
После чего собрался с духом и грозно прорычал:
— Иду на вы, суки!
Маленький Файзуллин хотел было удержать Авдеева, но тот упрямо двинулся вперед вдоль стены. Файзуллин засеменил следом. Собаки перестали лаять, но их хриплое дыхание по ту сторону бетона слышалось ежесекундно — они явно следовали за гулявшими.
— Слушай, мне мерещится или я голоса чьи-то слышу? — спросил Файзуллин.
Авдеев напрягся.
— Наверное, охрана где-то бродит. Вертухаи, бля.
Неожиданно перед Файзуллиным возник чей-то
темный силуэт. Переводчик испуганно вскинул фонарик, и в желтом круге возникло небритое мужское лицо.
— Ты кто? — спросил побледневший Файзуллин.
— Хрущев в пальто, — нагло ответил силуэт, прикрывая лицо ладонью. — Ты фонарь-то опусти. Тоже мне станционный смотритель. Куперман я.
— А-а, — успокоился Файзуллин и опустил фонарик. — А тут что делаешь?
— Бабочек ловлю. Как Набоков.
— Каких в жопу бабочек? — встрял Авдеев.
— Господи, да гуляю я!
— Один?!
— Почему один? Нас тут человек сорок.
В эту секунду, подобно вставшим из могил зомби, из темноты стали выступать остальные привольчане.
— Ядрёна Матрёна! — изумился, трезвея на глазах, Авдеев. — Все тут. А мы думали, мы одни.
— Тоже мне первопроходцы, — усмехнулся Куперман.
— И давно гуляете? — спросил Файзуллин.
— Чуть меньше часа, — ответил Куперман и зевнул. — Больше тут и не требуется. За сорок минут можно весь этот сраный Привольск обойти.
— Завод видели?
— Да видели, видели. Завод как завод. Воняет только.
— Значит, просто гуляете? — спросил Файзуллин.
— А вы?
— Мы так… — смутился переводчик.
— Ну, вот и мы так. Ищем дыру в заборе.
— Была б дыра, в нее бы уже давно собаки пролезли, — пробормотал Авдеев.
— Резонно, — согласился Куперман. — А кто-нибудь знает, как Берлинскую стену преодолевали?
Раздалось несколько голосов.
— Подкопы…
— Тоннели вроде рыли.
— Да за деньги переводили, — заметил правозащитник Ледяхин. — Западная Германия не скупилась на переброску политзаключенных.
— М-может, и на н-нас кто д-деньги даст, а? — робко спросил журналист Зуев.
— Да кому ты на хер нужен? — хмыкнул Авдеев и рыгнул.
— Сионизм не пройдет! — выкрикнул критик Миркин. — Русский не продаст свою совесть за деньги мировой закулисы.
— А ты, я вижу, тут самый русский, — снова хмыкнул Авдеев.
— Уж порусее некоторых пьяных рож, — огрызнулся Миркин, но на всякий случай отступил назад.
— На танке еще таранили, — прорычал бас, явно принадлежащий скульптору Горскому.
— На танке, — усмехнулся Куперман. — Ты где-нибудь тут танк видел?
— Ты же спросил про Берлинскую стену, а не про эту, — разозлился Горский.
— Перелетали, кажется, — пискнул кто-то в толпе.
— Вот ты и полетишь, — буркнул Куперман, не обернувшись.
Пискнувший смущенно замолчал.
— А может, проломить ее чем-нибудь? — снова встрял Горский.
— Чем? Молотком? Или головой своей, может?
— Слушайте, — возник Тисецкий. — А что если положить всю эту шайку-лейку и айда на волю? Тут всего-то майор, лейтенант, ну охрана еще.
Куперман поморщился.
— Мало того, что за побег всех по лагерям рассадят, так еще и убийство с отягчающими припаяют. Нет, тут мы застряли хорошо… Надолго.
— А н-не хотят ли н-нас тут просто ум-морить? — снова встрял испуганный голос Зуева.
— Чем это? — хмыкнул Куперман. — Дефицитными товарами и свободой творчества?