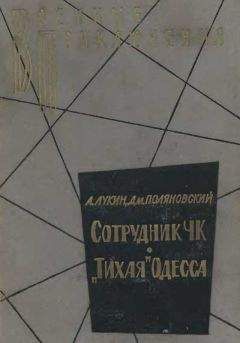Александр Лукин - Сотрудник ЧК
Один из часовых вышел из комнаты. Попов сел к столу, придвинул лист бумаги, взял карандаш.
– Ваша фамилия фон Гревенец? Имя, отчество, возраст?
Она беззвучно пошевелила губами и ничего не ответила.
– Не хотите? Воля ваша…
Наступило молчание. Громко дышал Пантюшка. Силин, сдвинув брови, обрывал бахрому на рукаве шинели. Киренко налитыми яростью глазами неподвижно смотрел на машинистку.
Лешка сидел, вцепившись пальцами в колени, оглушаемый ударами собственного сердца. Он чувствовал, что самое главное еще впереди.
Вошел Ващенко и остановился на пороге, вопросительно оглядывая присутствующих. В отличие от Лешки, он, очевидно, сразу понял, зачем его вызвали. На простоватом лице фронтовика появилось напряженное и даже какое-то страдальческое выражение.
Попов поднялся, упираясь рукой в стол.
– Эта женщина – немецкая шпионка, – глуховато произнес он. – Совет приговорил… в расход. Уведи.
Ващенко не пошевелился, только на длинной его шее судорожно прыгнул кадык.
– Таково решение Совета… – повторил Попов. Угловато, весь точно окаменев, Ващенко шагнул к машинистке и тронул ее за плечо:
– Пийдемо!
И тогда началось самое тягостное из всего, что довелось испытать Лешке за последнее время.
Машинистка истерически закричала. Вырываясь из рук фронтовиков, она разорвала ворот своего черного платья, оголилось худое, с выступающими ключицами, плечо. Волосы ее растрепались. Дико и нелепо тряслись желтые, прямые, как солома, космы. Проклятия сменялись угрозами, мольбами о пощаде, и крики ее вонзались в душу…
В эти мгновения Лешка совсем забыл, что эта женщина- враг, враг страшный, действовавший со звериным коварством, исподтишка, что из-за этой шпионки гибли люди и, может быть, даже все дело, ради которого лилась кровь на подступах к Херсону. Сейчас он видел только слабую, обезумевшую от ужаса женщину, бившуюся в руках дюжих фронтовиков.
В голове у него мутилось, тошнота подступала к горлу. И, уже не сознавая, что он делает, Лешка бросился вперед и, что-то отчаянно крича, стал отдирать руки Ващенко от женщины.
Его оттолкнули в сторону.
…Когда Лешка пришел в себя, фон Гревенец не было в комнате. Рядом стоял Силин.
– Ну, очухался? Эх, ты!.. Разве можно так, Алексей – Алешка, Николаев сын! – сказал он. – Иди вниз, я сейчас опущусь, поговорим. Помоги ему, – сказал он Пантюшке.
Тот бережно, как больного, подхватил друга под мышки. Лешка отпихнул его и пошел из канцелярии, провожаемый насмешливыми взглядами штабных писарей.
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
В караулке он лег ничком, уткнулся лицом в пыльную дерюгу соломенного тюфяка. Пантюшка спросил осторожно:
– Леш, может, дать тебе чего?
– Уйди! – огрызнулся Лешка. – Уйди лучше… Пантюшка обиженно отошел.
Ни тогда, ни после Лешка не мог объяснить, что он чувствовал. Ему было плохо. У него ныло все тело, и он почти физически ощущал навалившуюся на него тяжесть последних событий – событий одного дня, начавшихся разговором с Силиным и закончившихся безобразной сценой в штабе. То, что произошло за это короткое время, потрясло его, перепутало, смешало все, чем он жил до сих пор.
Раньше борьба за революцию представлялась Лешке открытым боем в чистом поле лицом к лицу с врагом. На деле все получалось иначе. В «чистое поле» он не попал. Там дрались другие, более счастливые, чем он. А ему выпала доля увидеть и испытать такое, о чем и вспомнить было тошно.
В ушах его все еще звенел пронзительный крик фон Гревенец. Враг, шпионка, выходец из какого-то иного, полуночного мира, в котором копошились зловещие фигуры Бодуэна и Маркова, – и все-таки было невыносимо сознавать, что, может быть, в эту самую минуту ее расстреливает Ващенко, человек с добрыми глазами, хороший, простоватый человек.
Лешка лежал пластом на топчане, обхватив руками голову. Ему было плохо, просто плохо…
Силин, войдя в комнату, спросил:
– Вы тут, хлопцы?
– Тут, – ответил Пантюшка.
– Почему в темноте сидите? Спичек, что ли, нет?
Он пошарил на столе, зажег светильник. Потом подошел и сел возле Лешки. Светильник поставил на соседний топчан.
– Ты, никак, заснул, Алексей? Вставай, вставай! Лешка нехотя сел, отворачиваясь от света. Силин пытливо, стараясь скрыть усмешку, рассматривал его.
Вид у Силина был измученный. Щеки его ввалились. От усталости он утратил свою привычку щуриться, и глаза его казались теперь больше и светлей. Над скулами набухли мешки.
– Нате вот, хлебца вам принес, – сказал он. – Небось не ели еще? А где Пантелей? Эй, друг, ты чего в угол забился? Иди, получай свою пайку!
Пантюшка живо перебрался на соседний топчан и сел на нем, по-турецки подогнув ноги.
Лешке есть не хотелось, но, желая показать, что с ним уже все в порядке, он взял протянутую Силиным краюху хлеба и через силу принялся жевать.
Силин заговорил оживленно:
– Не подвели вы меня, хлопцы! Чисто сыщики, нат-пинкертоны. Какую шпионку выловили, ай-ай! Важное сделали дело, это я всерьез говорю! Сволочь была большая, и жалеть нечего… – Он не смотрел на Лешку, но тому было от этого не легче. Кусок застревал у него в горле.
А Силин, словно ничего не замечая, продолжал:
– Конечно, человека расстрелять – это, брат, не просто, тем более бабу. Особенно, если с непривычки… Помню, на фронте еще, до революции, из нашего батальона сбежали двое, дезертировали… Добрались они до железной дороги, пристроились в порожнем товарнике, даже отъехали малость, а на ближайшей станции их сцапали. Доставили прямо в нашу часть, устроили полевой суд и – к расстрелу. Да как! Перед всем полком, чтобы другим не повадно было. Отвели нас с передовой в лес, построили вот таким манером… – Силин пальцем начертил на тюфяке большую букву П. – Выводят, значит, дезертиров. А они, сердяги, едва идут. Один-то молоденький был, чуть постарше вас. Плакал. А второй – лет под сорок, матерый мужчина, полтавчанин. Идет, спотыкается и все приговаривает: «Помилосердствуйте, люди, семья, детишки малые…» Детишки, мол, сиротами остаются. Собрались офицеры. Генерал речь держал, что, значит, как они есть дезертиры, то это позор на весь полк, и пусть их сами полчане и расстреливают. Понял, как завернул?..
Кликнули охотников. Все молчат, ни одного не нашлось. Тогда генерал велел нашему батальонному самому назначить. Тот фельдфебеля послал. Фельдфебель, конечно, собака, других я и не встречал. Обошел он строй, отобрал человек десять. Я думаю: «Слава богу, меня хоть миновало!» И тут как назло он выкликает: «Силин!» И вышел я, хлопцы, убивать своих товарищей…
Поставили их к дереву, глаза тряпками завесили. Расстрелом фельдфебель командовал. Дали залп, а дезертиры, как стояли, так и стоят. Понимаешь? Все такие же умные оказались, как и я. Все в воздух выпалили. Фельдфебель чуть не лопнул от злости. Генерал орет: «Предатели, под суд отдам!..» Выстрелили в другой раз. И поверишь, снова ни одна пуля в них не попала! Молоденький не выдержал такого страху, упал и давай кататься по земле. Век проживу – не забуду, как он кричал!.. Привязали его к дереву. Только с третьего залпа и закончили все дело…
Силин смотрел на коптящий огонек светильника, и лицо его, освещенное снизу, казалось составленным из углов и теней.
– Вот как было, хлопцы, – сказал он помолчав. – Там мы кого убивали? Своего же брата – фронтовика, такого же горюна, как и мы сами. Не хотел он воевать невесть за что. А эту шпионку я бы расстрелял и не поморщился! Это же враг. Не то чтоб тебе враг или, скажем, мне – всей революции враг. Ты подумай: ведь она барыня, генеральская дочка, всю жизнь в роскоши жила, заграничные языки знала, ей один наш запах хуже козлиного, а пошла к нам в машинистки шпионить. Крепко надо нашего брата ненавидеть, чтобы на такое решиться! И наделала делов. Да хорошо бы, чтоб на том кончилось… – Он покашлял в ладонь. – Нынче она что хотела сделать? Передать немцам, что мы убрали матросов, центр оголили. Ведь если они об этом узнают – всему конец…
– Теперь не узнают, – сказал Пантюшка.
– Думаешь? А про того шпиона, что удрал, ты забыл?
– Бумажка-то не у него была.
– Мало что! На словах разве нельзя передать? Пантюшка подумал и встревожено заерзал на топчане.
– А и верно! Как же теперь, товарищ Силин? Надо, значит, матросов назад!
В голосе Силина появились злые нотки:
– А я что говорю? Попов уперся, понимаешь, и не своротить его: как решили, так, мол, и будет. Эх, больно много у нас начальства, каждый себя Суворовым воображает! Киренко тоже его сторону взял, вот и поспорь с ними!.. Слышь, Алексей, Киренко-то на тебя зол. Отчего, говорит, он за шпионку заступился? Сам, должно быть, белая кость, контра… Лешка вскочил:
– Я?! Это я-то белая кость?!
Силин потянул его за руку, заставил сесть.
– Сам виноват: не надо было лезть. Нашел тоже кого защищать!.. Я Киренко говорю: «Ты что, Павло, ведь этот паренек сам ее выследил». И про отца твоего рассказал. Только тем и успокоил. Да-а, Алексей, в другой раз будешь осторожней: ведь это война, в спешке, бывает, не разберешься, кто свой, а кто не свой. Думаешь, я не понимаю, почему ты психанул? Я понимаю, я все, брат, понимаю. Да нельзя так. Воевать только начинаем, много еще будет крови. Враги кругом. Немцы – что! Пострашней есть враг. Каждый буржуй на нас волком смотрит, норовит в спину ударить. Или возьми Бодуэна. Посмотрел я нынче, как он живет. Везде фарфор, полы паркетные блеском блестят, на потолке ангелочки намалеваны и висят такие штуки для ламп, что я век не видывал А в спальне под кроватью – винтовки. Вот тебе и ангелочки!