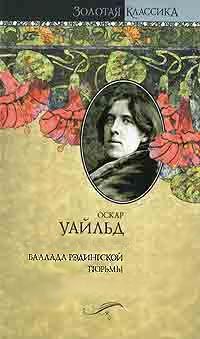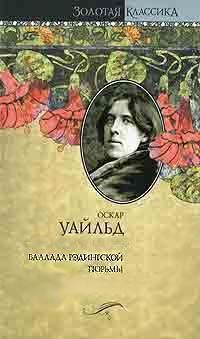Игорь Губерман - Гарики на каждый день
IX. Увы, но улучшить бюджет нельзя, не запачкав манжет
К бумаге страстью занедужив,
писатель был мужик ледащий;
стонала тема: глубже, глубже,
а он был в силах только чаще.
Наследства нет, а мир суров;
что делать бедному еврею?
Я продаю свое перо,
и жаль, что пуха не имею.
Бюрократизм у нас от немца,
а лень и рабство – от татар,
и любопытно присмотреться,
откуда винный перегар.
Беда, когда под бой часов
душа меняет крен ушей,
следя не тонкий вещий зов,
а полногрудый зов вещей.
В любимой сумрачной отчизне
я понял ясно и вполне,
что пошлость – верный спутник жизни,
тень на засаленной стене.
Печальный знак несовершенства
есть в быте нашего жилья:
везде угрюмое мошенство,
и нет веселого жулья.
Дойдут, дойдут до Бога жалобы,
раскрыв Божественному взору,
как, не стесняясь Божьей фауны,
внизу засрали Божью флору.
Увы, от мерзости и мрази,
сочащей грязь исподтишка,
ни у природы нету мази,
ни у науки порошка.
С любым доброжелателен и прост,
ни хитростью не тронут, ни коварством,
я выжига, пройдоха и прохвост,
когда имею дело с государством.
Злу я не истец и не судья,
пользу его чувствую и чту;
зло приносит вкусу бытия
пряность, аромат и остроту.
Совсем на жизнь я не в обиде,
ничуть свой жребий не кляну;
как все, в говне по шею сидя,
усердно делаю волну.
Среди чистейших жен и спутников,
среди моральнейших людей
полно несбывшихся преступников
и неслучившихся блядей.
Мужик, теряющий лицо,
почуяв страх едва,
теряет, в сущности, яйцо,
а их – всего лишь два.
Назло газетам и экранам
живая жизнь везде царит;
вранье на лжи сидит обманом
и блядству пакости творит.
Есть в каждой нравственной системе
идея, общая для всех:
нельзя и с теми быть, и с теми,
не предавая тех и тех.
Высокий свет в грязи погас,
фортуна новый не дарует;
блажен, кто верует сейчас,
но трижды счастлив, кто ворует.
Есть мужички – всегда в очках
и плотны, как боровички,
и сучья сущность в их зрачках
клыками блещет сквозь очки.
Не зная покоя и роздыха,
при лунном и солнечном свете
я делаю деньги из воздуха,
чтоб тут же пустить их на ветер.
Мои способности и живость
карьеру сделать мне могли,
но лень, распутство и брезгливость
меня, по счастью, сберегли.
У смысла здравого, реального –
среди спокойнейших минут –
есть чувство темного, анального,
глухого страха, что ебут.
Блаженна и погибельна работа,
пленительно и тягостно безделье,
но только между них живет суббота
и меряет по ним свое веселье.
Опасно жить в сияньи честности,
где оттого, что честен ты,
все остальные в этой местности
выходят суки и скоты.
Не плачься, милый, за вином
на мерзость, подлость и предательство;
связав судьбу свою с гавном,
терпи его к себе касательство.
Скука. Зависть. Одиночество.
Липкость вялого растления.
Потребительское общество
без продуктов потребления.
Становится с годами очень душно,
душа не ощущает никого,
пространство между нами безвоздушно,
и дух не проникает сквозь него.
Эпоха не содержит нас в оковах,
но связывает цепкой суетой
и сутолокой суток бестолковых
насилует со скотской простотой.
Нам охота себя в нашем веке
уберечь, как покой на вокзале,
но уже древнеримские греки,
издеваясь, об этом писали.
Ища путей из круга бедствий,
не забывай, что никому
не обходилось без последствий
пркосновение к дерьму.
Я не жалея покидал
своих иллюзий пепелище,
я слишком близко повидал
существованье сытых нищих.
Себя продать, но подороже
готов ровесник, выйдя в зрелость,
и в каждом видится по роже,
что платят меньше, чем хотелось.
За страх, за деньги, за почет
мы отдаемся невозвратно,
и непродажен только тот,
кто это делает бесплатно.
Когда нам безвыходно сразу
со всех обозримых сторон,
надежда надежней, чем разум,
и много мудрее, чем он.
Старик, держи рассудок ясным,
смотря житейское кино:
дерьмо бывает первоклассным,
но это все-таки гавно.
Надо очень увлекаться
нашим жизненным балетом,
чтоб не просто пресмыкаться,
но еще порхать при этом.
Не стоит скапливать обиды,
их тесный сгусток ядовит,
и гнусны видом инвалиды
непереваренных обид.
Такой подлог повсюду невозбранно
фасует вместо масла маргарин,
что кажется загадочно и странно,
что нету кривоногих балерин.
Блажен, заставший время славное
во весь размах ума и плеч,
но есть эпохи, когда главное –
себя от мерзости сберечь.
Напрасно мы погрязли в эгоизме,
надеясь на кладбищенский итог:
такие стали дыры в атеизме,
что ясно через них заметен Бог.
Все достаточно сложно и грозно
в этой слякоти крови и слез,
чтобы жить не чрезмерно серьезно
и себя принимать не всерьез.
Родясь не обезьяной и не сфинксом,
я нитку, по которой стоит жить,
стараюсь между святостью и свинством
подальше от обоих проложить.
В пепле наползающей усталости,
следствии усилий и гуляний –
главное богатство нашей старости,
полная свобода от желаний.
Словно от подпорченных кровей
ширится растление в державе;
кажется, что многих сыновей –
мачехи умышленно рожали.
Мы сохранили всю дремучесть
былых российских поколений,
но к ним прибавили пахучесть
своих духовных выделений.
Не горюй, старик, наливай,
наше небо в последних звездах,
устарели мы, как трамвай,
но зато и не портим воздух.
Люблю эту пьесу: восторги, печали,
случайности, встречи, звонки;
на нас возлагают надежды в начале,
в конце – возлагают венки.
Нашедши доступ к чудесам,
я б их использовал в немногом:
собрал свой пепел в урну сам,
чтоб целиком предстать пред Богом.
X. Живу я более, чем умеренно, страстей не более, чем у мерина
Меж чахлых, скудных и босых,
сухих и сирых
есть судьбы сочные, как сыр, –
в слезах и дырах.
Пролетарий умственного дела,
тупо я сижу с карандашом,
а полузадохшееся тело
мысленно гуляет нагишом.
Маленький, но свой житейский опыт
мне милей ума с недавних пор,
потому что поротая жопа –
самый замечательный прибор.
Бывает – проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.
Я не хожу в дома разврата,
где либералы вкусно кормят,
а между водки и салата
журчит ручей гражданской скорби.
В эпохах вздыбленных и нервных
блажен меж скрежетов зубовных
певец явлений атмосферных
и тонких тайностей любовных.
Вчера мне снился дивный сон,
что вновь упруг и прям,
зимой хожу я без кальсон
и весел по утрам.
Радость – ясноглазая красотка,
у покоя – стеганный халат,
у надежды – легкая походка,
скепсис плоскостоп и хромоват.
Сто тысяч сигарет тому назад
таинственно мерцал вечерний сад;
а нынче ничего нам не секрет
под пеплом отгоревших сигарет.
Когда я раньше был моложе
и знал, что жить я буду вечно,
годилось мне любое ложе
и в каждой бабе было нечто.
Судьба моя полностью взвешена:
и возраст висит за спиной,
и спит на плече моем женщина,
и дети сопят за стеной.
Дивный возраст маячит вдали –
когда выцветет все, о чем думали,
когда утром ничто не болит
будет значить, что мы уже умерли.
Мой разум не пронзает небосвод,
я им не воспаряю, а тружусь,
но я гораздо меньший идиот,
чем выгляжу и нежели кажусь.
В нас что ни год – увы, старик, увы,
темнее и тесней ума палата,
и волосы уходят с головы,
как крысы с обреченного фрегата.
Уж холод пронизал нас до костей,
и нет былого жара у дыхания,
а пламя угасающих страстей
свирепей молодого полыхания.
Весенние ликующие воды
поют, если вовлечься и прильнуть,
про дикую гармонию природы,
и знать о нас не знающей ничуть.
С кем нынче вечер скоротать,
чтоб утром не было противно,
С одной тоска, другая – блядь,
а третья слишком интенсивна.
Изведав быстрых дней течение,
я не скрываю опыт мой:
ученье – свет, а неучение –
уменье пользоваться тьмой.
Я жизнь свою организую,
как врач болезнь стерилизует,
с порога на хуй адресую
всех, кто меня организует.
Увижу бабу, дрогнет сердце,
но хладнокровен, словно сплю;
я стал буквальным страстотерпцем,
поскольку страстный, но терплю.
Душа отпылала, погасла,
состарилась, влезла в халат,
но ей, как и прежде, неясно,
что делать и кто виноват.
Не в том беда, что серебро
струится в бороде,
а в том беда, что бес в ребро
не тычется нигде.
Наружу круто выставив иголки,
укрыто провожу остаток дней;
душе милы и ласточки, и волки,
но мерзостно обилие свиней.
Жизнь, как вода, в песок течет,
последний близок путь почета,
осталось лет наперечет
и баб нетронутых – без счета.
Полувек мой процокал стремительно,
как аллюр скакового коня,
и теперь я живу так растительно,
что шмели опыляют меня.
Успех любимцам платит пенсии,
но я не числюсь в их числе,
я неудачник по профессии
и мастер в этом ремесле.
Я внешне полон сил еще покуда,
а внутренне – готовый инвалид;
душа моя – печальный предрассудок –
хотя не существует, а болит.
Служа, я жил бы много хуже,
чем сочинит любой фантаст,
я совместим душой со службой,
как с лесбиянкой – педераст.
Скудею день за днем. Слабеет пламень;
тускнеет и сужается окно;
с души сползает в печень грузный камень,
и в уксус превращается вино.
Теперь я стар – к чему стенания?!
Хожу к несведущим врачам
и обо мне воспоминания
жене диктую по ночам.
Я так ослаб и полинял,
я столь стремглав душой нищаю,
что Божий храм внутри меня
уже со страхом посещаю.
Лишь постаревши, я привык,
что по ошибке стал мишенью:
когда Творец лепил мой лик,
он, безусловно, метил шельму.
Теперь вокруг чужие лица,
теперь как прежде жить нельзя,
в земле, в тюрьме и за границей
мои вчерашние друзья.
Пошла на пользу мне побывка
в местах, где Бог душе видней;
тюрьма – отменная прививка
от наших страхов перед ней.
Чего ж теперь? Курить я бросил,
здоровье пить не позволяет,
и вдоль души глухая осень,
как блядь на пенсии, гуляет.
Я, Господи, вот он. Почти не смущаясь,
совсем о немногом Тебя я прошу:
чтоб чувствовать радость, домой возвращаясь,
и вольную твердость, когда ухожу.
Хоронясь от ветров и метелей
и достичь не стремясь ничего,
в скорлупе из отвергнутых целей
правлю я бытия торжество.
В шумных рощах российской словесности,
где поток посетителей густ,
хорошо затеряться в безвестности,
чтоб туристы не срали под куст.
Что может ярко утешительным
нам послужить под старость лет?
Наверно, гордость, что в слабительном
совсем нужды пока что нет.
Судьба – я часто думаю о ней:
потери, неудачи, расставание;
но чем опустошенней, тем полней
нелепое мое существование.
С утра, свой тусклый образ брея,
глазами в зеркало уставясь,
я вижу скрытного еврея
и откровенную усталость.
Я уверен, что Бог мне простит
и азарт, и блаженную лень;
ведь неважно, чего я достиг,
а важнее, что жил каждый день.
Я кошусь на жизнь веселым глазом,
радуюсь всему и от всего;
годы увеличили мой разум,
но весьма ослабили его.
Как я пишу легко и мудро!
Как сочен звук у строк тугих!
Какая жалость, что наутро
я перечитываю их!
Вчера я бежал запломбировать зуб
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.
Терпя и легкомыслие и блядство,
судьбе я продолжаю доверять,
поскольку наше главное богатство –
готовность и умение терять.
Осенний день в пальтишке куцем
смущает нас блаженной мукой
уйти в себя, забыть вернуться,
прильнуть к душе перед разлукой.
Не жаворонок я и не сова,
и жалок в этом смысле жребий мой:
с утра забита чушью голова,
а к вечеру набита ерундой.
Старости сладкие слабости
в меру склероза и смелости:
сказки о буйственной младости,
мифы о дерзостной зрелости.
Неволя, нездоровье, нищета –
солисты в заключительном концерте,
где кажется блаженством темнота
неслышно приближающейся смерти.
Старенье часто видно по приметам,
которые грустней седых волос:
толкает нас к непрошеным советам
густеющий рассеянный склероз.
Я не люблю зеркал – я сыт
по горло зрелищем их порчи:
какой-то мятый сукин сын
из них мне рожи гнусно корчит.
Нету счета моим пропажам,
члены духа висят уныло,
раньше порох в них был заряжен,
а теперь там одни чернила.
Устали, полиняли и остыли,
приблизилась дряхления пора,
и время славить Бога, что в бутыли
осталась еще пламени игра.
Святой непогрешимостью светясь
от пяток до лысеющей макушки,
от возраста в невинность возвратясь,
становятся ханжами потаскушки.
Моих друзей ласкают Музы,
менять лежанку их не тянет,
они солидны, как арбузы:
растет живот и кончик вянет.
Стало тише мое жилье,
стало меньше напитка в чаше,
это годы берут свое,
а у нас отнимают наше.
Один дышу, одно пою,
один горит мне свет в окне –
что проживаю жизнь свою,
а не навязанную мне.
Года пролились ливнями дождя,
и мне порой заманчиво мгновение,
когда в навечный сумрак уходя,
безвестность мы меняем на забвение.
Увы, я слаб весьма по этой части,
в душе есть уязвимый уголок:
я так люблю хвалу, что был бы счастлив
при случае прочесть мой некролог.
Сопливые беды, гнилые обиды,
заботы пустой суеты –
куда-то уходят под шум панихиды
от мысли, что скоро и ты.
Умру за рубежом или в отчизне,
с диагнозом не справятся врачи:
я умер от злокачественной жизни,
какую с наслаждением влачил.
Моей душе привычен риск,
но в час разлуки с телом бренным
ей сам Господь предъявит иск
за смех над стадом соплеменным.
С возрастом я понял, как опасна
стройка всенародного блаженства;
мир несовершенен так прекрасно,
что спаси нас Бог от совершенства.
Господь, принимающий срочные меры,
чтоб как-то унять умноженье людей,
сменил старомодность чумы и холеры
повальной заразой высоких идей.
А время беспощадно превращает,
летя скозь нас и днями и ночами,
пружину сил, надежд и обещаний
в желе из желчи, боли и печали.
Я жил отменно: жег себя дотла,
со вкусом пил, молчал, когда молчали,
и фактом, что печаль моя светла,
оправдывал источники печали.
Геройству наше чувство рукоплещет,
героев славит мир от сотворения;
но часто надо мужества не меньше
для кротости, терпения, смирения.
Неслышно жил. Неслышно умер.
Укрыт холодной глиной скучной.
И во вселенском хамском шуме
растаял нотою беззвучной.
В последний путь немногое несут:
тюрьму души, вознесшейся высоко,
желаний и надежд пустой сосуд,
посуду из-под жизненного сока.
Когда я в Лету каплей кану,
и дух мой выпорхнет упруго,
мы с Богом выпьем по стакану
и, может быть, простим друг друга.
Том II