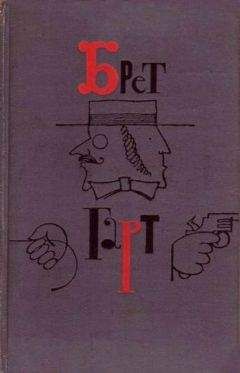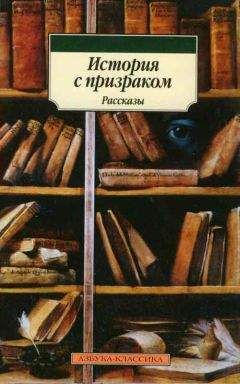Саша Черный - Собрание сочинений. Т. 1
КОЛЫБЕЛЬНАЯ*
(Для мужского голоса)
Мать уехала в Париж…
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Черный гладкий таракан
Важно лезет под диван.
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет, шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый гладок, как Бова,
Новый гладок и богат.
С ним не скучно… Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит.
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Все на свете трын-трава…
Жили-были два крота…
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,—
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза…
Жили козлик и коза…
Кот козу увез в Париж…
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через… год… вернется… мать…
Сына нового рожать…
«ДУРАК»*
Под липой пение ос.
Юная мать, пышная мать
В короне из желтых волос,
С глазами святой,
Пришла в тени почитать —
Но книжка в крапиве густой…
Трехлетняя дочь
Упрямо
Тянет чужого верзилу: «Прочь!
Не смей целовать мою маму!»
Семиклассник не слышит,
Прилип, как полип,
Тонет, трясется и пышет.
В смущенье и гневе
Мать наклонилась за книжкой:
«Мальчишка!
При Еве!»
Встала, поправила складку
И дочке дала шоколадку.
Сладостен первый капкан!
Три блаженных недели,
Скрывая от всех, как артист,
Носил гимназист в проснувшемся теле
Эдем и вулкан.
Не веря губам и зубам,
До боли счастливый,
Впивался при лунном разливе
В полные губы…
Гигантские трубы,
Ликуя, звенели в висках,
Сердце, в горячих тисках,
Толкаясь о складки тужурки,
Играло с хозяином в жмурки,—
Но ясно и чисто
Горели глаза гимназиста.
Вот и развязка:
Юная мать, пышная мать
Садится с дочкой в коляску —
Уезжает к какому-то мужу.
Склонилась мучительно близко,
В глазах улыбка и стужа,
Из ладони белеет наружу —
Записка!
Под крышей, пластом,
Семиклассник лежит на диване
Вниз животом.
В тумане,
Пунцовый, как мак,
Читает в шестнадцатый раз
Одинокое слово: «Дурак!»
И искры сверкают из глаз
Решительно, гордо и грозно.
Но поздно…
ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА*
(Повесть)
Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки: «Несчастный капцан!»
Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки,
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
На утро очнулся. Разгладил бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слез опухшую дочку.
Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла, как идол,
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:
«Хочу за Эпштейна». — «Молчать!!!» — «Хо-чу за Эпштейна».
Фарфурник подумал… вздохнул. Ни словом решенья не выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжко в ковер. Дочку заперли в спальне.
Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришел, негодяй, закурил и расселся, как дома.
Madame огорченно сморкается в пятый платок.
Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщик! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой, как мак!..»
«Ша… — начал Фарфурник. — Скажите, могли бы ли вы
Купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные средства?
Галошу одну могли бы ли вы ей купить?!»
Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы:
«Купить бы купил, да никто не оставил наследства…»
Со стенки папаша Фарфурника строго косится.
«Ага, молодой человек! Но я не нуждаюсь! Пусть так.
Кончайте ваш курс, положите диплом на столе и венчайтесь —
Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце…
Пускай хоть за утку выходит — лишь был бы счастливый ваш брак,
Но раньше диплома, пусть гром вас убьет, не встречайтесь,
Иначе я вам сломаю все руки и ноги!»
«Да, да… — сказала madame. — В дворянской бане во вторник
Уже намекали довольно прозрачно про вас и про Розу —
Их счастье, что я из-за пара не видела кто!»
Эпштейн поклялся, что будеть жить, как затворник,
Учел про себя Фарфурника злую угрозу
И вышел, взволнованным ухом ловя рыданья из спальни.
Вечером, вечером сторож бил
В колотушку, что есть силы!
Как шакал, Эпштейн бродил
Под окошком Розы милой.
Лампа погасла, всхлипнуло окошко,
В раме — белое, нежное пятно.
Полез Эпштейн — любовь не картошка:
Гоните в дверь, ворвется в окно.
Заперли, заперли крепко двери,
Задвинули шкафом, чтоб было верней.
Эпштейн наклонился к Фарфурника дщери
И мучит губы больней и больней…
Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цветет — Эпштейн не дурак:
Соперник Поплавский имеет три дома
И тоже питает надежду на брак…
За дверью Фарфурник, уткнувшись в подушку,
Храпит баритоном, жена — дискантом.
Раскатисто сторож бубнит в колотушку,
И ночь неслышно обходит дом.
В БАШКИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ*
За тяжелым гусем старшим
Вперевалку тихим маршем
Гуси шли, как полк солдат.
Овцы густо напылили,
И сквозь клубы серой пыли
Пламенел густой закат.
А за овцами коровы,
Тучногруды и суровы,
Шли, мыча, плечо с плечом.
На веселой лошаденке
Башкиренок щелкал звонко
Здоровеннейшим бичом.
Козы мекали трусливо
И щипали торопливо
Свежий ивовый плетень.
У плетня на старой балке
Восемь штук сидят, как галки, —
Исхудалые, как тень.
Восемь штук туберкулезных,
Совершенно не серьезных,
Ржут, друг друга тормоша.
И башкир, хозяин старый,
На раздольный звон гитары
Шепчет: «Больно караша!»
Вкруг сгрудились башкирята.
Любопытно, как телята,
В городских гостей впились.
В стороне худая дева
С волосами королевы
Удивленно смотрит ввысь.
Перед ней туберкулезный
Жадно тянет дух навозный
И, ликуя, говорит —
О закатно-алой тризне,
О значительности жизни,
Об огне ее ланит.
«Господа, пора ложиться,—
Над рекой туман клубится».
«До свиданья!» «До утра!»
Потонули в переулке
Шум шагов и хохот гулкий…
Вечер канул в вечера.
А в избе у самовара
Та же пламенная пара
Замечталась у окна.
Пахнет йодом, мятой, спиртом,
И, смеясь над бедным флиртом,
В стекла тянется луна.
ПРЕКРАСНЫЙ ИОСИФ*
Томясь, я сидел в уголке,
Опрыскан душистым горошком.
Под белою ночью в тоске
Стыл черный канал за окошком.
Диван, и рояль, и бюро
Мне стали так близки в мгновенье,
Как сердце мое и бедро,
Как руки мои и колени.
Особенно стала близка
Владелица комнаты Алла…
Какие глаза, и бока,
И голос… как нежное жало!
Она целовала меня,
И я ее тоже — обратно,
Следя за собой, как змея,
Насколько мне было приятно.
Приятно ли также и ей?
Как долго возможно лобзаться?
И в комнате стало белей,
Пока я успел разобраться.
За стенкою сдержанный бас
Ворчал, что его разбудили.
Фитиль начадил и погас.
Минуты безумно спешили…
На узком диване крутом
(Как тело горело и ныло!)
Шептался я с Аллой о том,
Что будет, что есть и что было.
Имеем ли право любить?
Имеем ли общие цели?
Быть может, случайная прыть
Связала нас на две недели.
Потом я чертил в тишине
По милому бюсту орнамент,
А Алла нагнулась ко мне:
«Большой ли у вас темперамент?»
Я вспыхнул и спрятал глаза
В шуршащие мягкие складки,
Согнулся, как в бурю лоза,
И долго дрожал в лихорадке.
«Страсть — темная яма… За мной
Второй вас захватит и третий…
При том же от страсти шальной
Нередко рождаются дети.
Сумеем ли их воспитать?
Ведь лишних и так миллионы…
Не знаю, какая вы мать,
Быть может, вы вовсе не склонны?..»
Я долго еще тарахтел,
Но Алла молчала устало.
Потом я бессмысленно ел
Пирог и полтавское сало.
Ел шпроты, редиску и кекс
И думал бессильно и злобно,
Пока не шепнул мне рефлекс,
Что дольше сидеть неудобно.
Прощался… В тоске целовал,
И было все мало и мало.
Но Алла смотрела в канал
Брезгливо, и гордо, и вяло.
Извозчик попался плохой.
Замучил меня разговором.
Слепой, и немой, и глухой,
Блуждал я растерянным взором
По мертвой и новой Неве,
По мертвым и новым строеньям, —
И было темно в голове, —
И в сердце росло сожаленье…
«Извозчик, скорее назад!» —
Сказал, но в испуге жестоком
Я слез и пошел наугад
Под белым молчаньем глубоким.
Горели уже облака…
И солнце уже вылезало.
Как тупо влезало в бока
Смертельно щемящее жало!
ГОРОДСКОЙ РОМАНС*