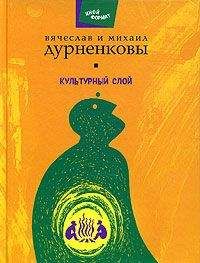Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий
Забавно мне, что в те же годы, когда я писал эти стишки, не веря, что такое счастье, как свобода, может наступить даже в России, были поэты, заклинавшие Бога (и православного, и Бога вообще), чтоб ничего не изменилось. Ужасно интересно вспоминать сегодня один трогательный стих того времени достославного Станислава Куняева:
От объятий швейцарского банка,
что мечтает зажать нас в горсти,
ты спаси нас, родная Лубянка,
больше нас никому не спасти.
Я теперь часто читаю этот стих на выступлениях, и мне со сцены ясно видно, что не только смех высветляет лица зрителей, но и какая-то теплая ностальгическая дымка — так, наверно, запах костра влияет на все чувства бывшего заядлого туриста. Очень пахнет нашим прошлым этот стих, а в любом минувшем совершенно независимо от его качества содержится неуловимая приятность. Я же лично вспоминаю сразу чье-то дивное двустишие по поводу как раз этого стиха:
Вчера читал Куняева —
мне нравится хуйня его.
И общий смех сдувает эту теплую волну приятства. Ужасно глупо, разумеется, начинять собственную книжку чужими стихами, но придется мне украсить эту главу гениальным (иного слова нет, и потому обидно мне вдвойне) четверостишием о том же времени поэта Фомичева (а если спутал я фамилию, прошу прощения, не записал). Думаю, что от такого четверостишия не отказался бы и Тютчев, хотя побрезговал бы его писать.
Пустеет в поле борозда,
наглеет в городе делец,
желтеет красная звезда,
у ней растет шестой конец.
Уже пятнадцать с лишком лет прошло с поры, как я писал стишки, приведенные тут в начале, но странная и грустная созвучность этих виршей дню сегодняшнему (если я не ошибаюсь, разумеется) заставила меня, презревши лень, восстановить и некую давным-давно написанную мной поэму. Когда явился на российском небосводе новый, явно долгоиграющий президент, я вспомнил вдруг, что я уже некогда пытался описать чувства, что возникли ныне в моей пустой (и потому отзывчивой для современности) голове. А так как я в те годы писал только о евреях, то поэма эта даже и названием своим (точней — двумя) привязана к любимой мною русской литературе.
Сказка о царе Натане, или Бедный всадникПосвящается актерам Всероссийского гастрольно-концертного объединения (ВГКО)
Где море лижет горы,
невидимый врагам
возрос огромный город,
прижатый к берегам.
Дома из камня белого
о прочности поют,
мужчины сделки делают,
а женщины — уют.
Снабженцы с сигаретами
толпятся на трамвай,
висят листы с декретами:
«Купив — перепродай!»
Сопят младенцы в садике,
раввины спят в метро,
сидят седые цадики
в справочных бюро.
Бесплатные советы
желающим дают,
Петраркины сонеты
страдающим поют.
На стыке главных улиц
в неоновом огне
сидит верховный Пуриц
на вздыбленном коне.
Всеобщим, тайным, равным
любить и устрашать —
он выбран самым главным,
чтоб город украшать.
Но полон день заботами,
справляться нелегко,
и всадником работает
актер ВГКО.
По лысине и гриму
стекает мелкий дождь…
Спешат евреи мимо,
сидит промокший вождь.
А из окошка рядом
пылает нервный свет:
за каменной оградой
галдит Большой Совет.
Встал Натан, высок и плотен:
— Если партия не против,
я бы съездил за границу,
где коктейли и девицы.
Чтобы связи нам расширить,
буду пить и дебоширить.
А по Франции, как мушки,
сонно бродят потаскушки,
и летят, как комары,
сутенеры и воры.
Знак любви и знак доверия,
даст мне деньги бухгалтерия,
где сидит Иван-царевич,
а по матери — Гуревич.
Шевелит Совет усами:
бардаками славен Запад,
соберем налоги сами,
отдыхай, наш вождь и папа.
Пусть летит! Лететь не ехать!
Нарастает шум и гам,
рикошетом плещет эхо
по окрестным берегам.
Мимо кромки океана
самолет везет Натана,
а внизу на площади
сидит актер на лошади…
Но проснулся в час рассвета
Клары Цеткин дряхлый внук,
непременный член Совета
анархист Ефим Генук.
Заглянул к жене в покои,
стал чему-то рад,
свой гормон легко настроил
на бунтарский лад.
Черным флагом развевая,
вышел вон из дома…
Революция (любая)
начинается с погрома.
Бьют Трибунера и Пульта,
горлопанов-трепачей,
бьют Инфаркта и Инсульта
(все болезни — от врачей).
Балалайка бьет Ноктюрна,
рвет Сольфеджию Гармонь,
скачет уличная Урна,
масло брызгая в огонь.
И от часа к часу злее,
словотреньем пламя вызвав,
бьют самих себя евреи
за несходство фанатизмов.
Плачут идолы и бонзы,
тьмой и страхом воздух скован.
Конь заржал! Но голос бронзы
был неверно истолкован.
Хрустнул хряснутый хрусталь,
лес о щепках плакал,
закалялась наша сталь,
выжигая Шлака.
Стук стаканов, звон бокалов,
отпущенье арестантам,
ночью жены генералов
дезертируют к сержантам.
Разбегаются солдаты,
ходят пить и ночевать,
и темны военкоматы,
стало некем воевать.
В унитазе (дверь направо)
тонет План Мероприятий,
все светлее быт и нравы,
все угрюмей обыватель.
Щели трещин вдоль по стенам,
ждут поливки баобабы,
но разрушена система,
и не трудятся арабы.
И с оглядкой, воровато
говорят среди народа,
что печалями чревата
чересчурная свобода.
Так что гул аэроплана
все желаннее и ближе…
Самолет везет Натана,
похудевшего в Париже.
И восторги исторгая,
ликованье в горле комом…
Революция (любая)
завершается погромом.
Бьют Трибунера и Пульта,
горлопанов-трепачей,
бьют Инфаркта и Инсульта
(все болезни — от врачей).
В клочьях пуха ветер свищет,
каждый прячется в дому,
лишь Шерлок-Алейхем (сыщик)
выясняет что к чему.
Знает: в битвах за Коня,
там, где трудно дышится,
дым возможен без огня,
нет огня без Дымшица.
Власть летит в автомобиле,
выступать имея страсть:
— Вы актера истребили,
а в Натана — не попасть!
Не попасть веков вовеки,
ваш мятеж — самообман,
ибо в каждом человеке
дремлет собственный Натан.
Он аморфен и кристален,
он во всех, и каждый — с ним,
он, как мысль, материален
и, как тень, неуловим.
Разберитесь, осознайте,
затвердите как урок,
приходите, примыкайте,
зачисляйтесь на паек…
Вот и все. Развязку драме
понемногу ищут люди,
ищут цадики и сами —
кто в бутылке, кто в Талмуде.
Все пошли служить послушно,
добывая детям хлеба,
прикупая все, что нужно,
в мавзолеях ширпотреба.
И сидит Натан сурово…
Жить привычно и легко…
Говорят, под гримом снова
спит актер ВГКО.
Часть V
Трое в одном веке
Что наша жизнь?
«Игра», — ответит любой, кто слышал знаменитую арию, а кто ее не слышал, все равно ответит то же самое. И будут правы. Только до какой степени наша жизнь — игра, навряд ли они могут себе даже представить. Сегодня это более всех понимают ученые, которые исследуют устройство и работу мозга.