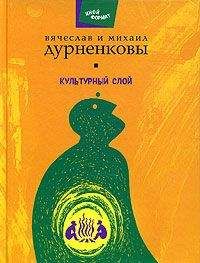Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий
Что-то не упомню я такого поворота событий ни в одной евангельской притче, только дело ведь не в этом. Ясно, что такое национальное ополчение должно призвать к порядку и образумить собственных блудных сыновей.
Однако дальше — пуще. Эстафета звона еще только набирает звук.
Дмитрий Балашов — известный автор жгуче достоверных исторических романов о великой и несчастной Древней Руси. На фотографии — длинные седые волосы, клочковатая седая борода, сумрачные большие глаза — изнуренное тяжелыми раздумьями лицо аскета и философа. Лицо такое, что Толстой и Достоевский могут отдыхать. А тема полностью обозначена заголовком — «Еще раз о покаянии». Здесь кульминация всей колокольной службы номера, апофеоз мятущегося духа. И к евреям ненависть высокая, пламенеющая, словно готика того же названия. Хотя в зачине — то же самое словесное месиво.
С ним даже глупо спорить, только процитировать и вздохнуть.
«Мы знаем, что и в создании коммунистической идеологии роль евреев была исключительной. Маркс — крещеный еврей; вся верхушка ленинской гвардии на 98 % была еврейской, евреи составили в основном правительство страны после победы революции, еврей Свердлов уничтожил казаков, Тухачевский топил в крови восстание тамбовских крестьян, Френкель организовывал лагеря, в коих изгнили миллионы русичей, и так далее».
А еще упоминается таинственный американский миллиардер Шифф, без денег которого не удалась бы революция, и еврей-масон Парвус, который все, как известно, завязал и устроил.
Только далее — аккорд не банальный, а вполне достойный аскета-мыслителя. Зная все это, пишет Балашов, я скажу (выделено курсивом): «Евреям каяться не в чем».
И поясняет: «Ежели тот, кто делал все эти мерзости, делал их, опираясь на древнюю, отраженную в Талмуде идею национальной исключительности, единственности еврейского народа, — то он лишь исполнял (и блестяще выполнил) свою религиозную установку».
А перечислив злодеяния евреев под водительством Ленина более подробно («уничтожили русскую империю, развалили страну, истребили все активные классы русского общества, включая трудовое крестьянство»), доходит мыслящий Балашов до высшей ноты: «И вообще слуги сатаны ответственны перед сатаной, а не перед Господом! Так возникает вопрос: в чем же им каяться?»
Так что только православных призывает Балашов к покаянию, ибо незряче исполняли они (и посейчас также слепо исполняют) все злоумышленные планы врагов рода человеческого. Которых следует судить и либо изгонять из страны, либо подвергать смертной казни. (Чуя именно такой исход, пишет Балашов, развернули сейчас хитрые злодеи такую бешеную борьбу за отмену смертной казни.)
Почитал я дивный текст этого саблезубого гуманиста и подумал с грустью и тревогой: почему же мы, евреи, отравители душевных колодцев, — ополчились именно на Россию?
Но настолько мелодически полон оказался этот номер газеты, что немедля я нашел ответ и на последний свой немой вопрос. Ничуть не только на Россию ополчились евреи, а на весь без исключения подлунный Божий мир. Который давным-давно уже мы покоряем планомерно и тщательно, в разное время окучивая разные страны. Объяснила это мне статья Геннадия Шиманова — «О тайной природе капитализма». Мне досталось в номере газеты только окончание этого блестящего труда, но и его вполне достаточно для ясности картины, и я в меру сил моих перескажу леденящий кровь детектив о плетении всемирной паутины.
Оказывается, было так: в середине прошлого века иудейские финансовые магнаты облюбовали Соединенные Штаты Америки. Они решили превратить эту страну в «ведущую державу всего капиталистического мира, должную распространить свое экономическое, политическое и духовное влияние на все человечество». И не стоит, читатель, принимать всерьез ту чушь, которую написали с тех пор всякие экономисты, историки, социологи и прочие слепые ученые о причинах и путях развития и процветания Америки. Эти профессора кислых щей были специально наняты, чтоб затемнить истинные пружины и механизмы. А на самом деле — Америка была секретно запланирована евреями, чтоб стать такой, как есть сейчас, и потекли туда по тайным каналам несметные деньги европейских банкиров. Главным образом — из Швейцарии, ибо именно там евреи с давних пор таили и копили свои сокровища. Почему же именно в Швейцарии? — спрашивает сам себя проницательный Шиманов. И отвечает, по-моему, просто и гениально. Во-первых, потому что история швейцарских банков («равно, как и история самой Швейцарии») окутана глубокой тайной — что с несомненностью означает тесную причастность к этому евреев. А во-вторых, по утверждению Еврейской энциклопедии, том 4, еврейские финансисты появились в районе Берна уже в шестом веке нашей эры.
В жизни своей ничего убедительнее я не читал. Вот какие страшные мы люди, думал я, и горестная гордость распирала мою грудь. И тут я вдруг сообразил, что я могу помочь Шиманову — он поленился полистать энциклопедию дальше, — а ведь текли еще, конечно же, и французские деньги, потому что в томе на букву «п» написано черным по белому (о, местечковая гордыня наша, побуждающая выбалтывать такие ключевые тайны!), что Париж хоть и столица Франции, однако же — «евреи здесь жили еще до завоевания Галлии франками».
Я покурил, остыл немного, выпил кофе и уныло занялся исторически предначертанным мне делом — сел вычитывать текущие инструкции из книжки «Протоколы сионских мудрецов». Я еще тоже напишу о нас со временем полную правду, тщеславно думал я. Не зря ведь самые заядлые антисемиты — из картавых.
Забытые стихи
Был у меня как-то краткий разговор с литературным профессором Романом Тименчиком, благо живет он тут же в Иерусалиме и преподает в университете. На случайной пьянке встретившись и мне желая что-нибудь приятное сказать, Роман спросил:
— У вас ведь, Игорь, есть черновики? Отдайте нам их, мы бы изучали ваше творчество, уже пора.
Я был польщен безмерно и, неловко восхищение скрывая, горестно признался:
— Нету, милый Рома, я как книжку кончу, сразу все выбрасываю, не держу архива никакого.
— Жаль, — ответил мне профессор с облегчением, — а то бы изучали.
Через какое-то недолгое время я наткнулся в ящике стола на уцелевший по случайности блокнот со множеством стишков. Вот настоящие литературные черновики, обрадовался я. И на случившейся такой же пьянке я как бы мельком и со скромностью, присущей ситуации, сказал Тименчику:
— А знаете, Роман, я тут нашел один блокнот довольно старый, там черновики большого сборника стихов…
А так как профессор явно не вспоминал, к чему я гну, я пояснил стеснительно:
— А то ведь изучать пора…
Роман просиял и доверительно сказал мне:
— Я это самое всем аспирантам говорю, а никто не хочет!
Я дивный этот разговор недавно вспомнил, ибо мне довольно крепко повезло. Это была как бы награда за неряшество. Я не храню архив, а та огромная помойка, что растет на полках и в шкафу, в ящиках стола и под столом, такого названия не заслуживает ни по виду своему, ни по сроку сохранения. Ибо как только предвидятся гости, я всю внешнюю часть помойки выбрасываю, а до внутренней добираюсь лишь частично — всегда находятся забытые листки, над которыми я с интересом безнадежно застреваю. Но однажды для гостей понадобились даже полки шкафа, тут я с силами душевными собрался и дня за два выбросил вообще все. А за прилежность был вознагражден: нашлась тетрадь, которую когда-то контрабандой вывез я в Израиль, уезжая. Там были стишки, которые писались с самого начала перестройки. Большую их часть я напечатал сразу по приезде, а оставшиеся бросил и забыл. Теперь найдя, я обнаружил, что они имеют прямое касательство к теме российской свободы, а значит — пусть живут в этой книжке.
Из дневника 1986–1987 годовУслышав новое решение,
мы по команде, ровным строем
себя на вольное мышление
беспрекословно перестроим.
Я сыт по горло первым блюдом
разгула гласности унылой,
везде так люто пахнет блудом,
что хлынет блядство с новой силой.
На днях мы снова пыл утроим,
поднимем дух, как на войне,
и новый мир опять построим,
и вновь окажемся в гавне.
Много раз я, начальство не зля,
обещал опустить мои шторы,
но фальшивы мои векселя
и несчастны мои кредиторы.
Сплелись бесчисленные нити
в нерасторжимые узлы,
и, не завися от событий,
капустой ведают козлы.
Случаем, нежданно, без разбега,
словно без малейшего усилья —
но летит российская телега,
в воздухе сколачивая крылья.
Временно и зыбко нас украсила
воля многоцветьем фонарей;
гласность означает разногласие,
а оно в России — как еврей.
Трудно жить в подлунном мире,
ибо в обществе двуногих
то, что дважды два — четыре,
раздражает очень многих.
Питомцы лагерной морали,
на воле вмиг раскрепостясь,
мы рвались жить и жадно крали,
на даже мизер жалко льстясь.
Менее ли хищен птеродактиль,
знающий анапест, ямб и дактиль?
Так меняются от рабства народы,
что опасны для такого народа
преждевременные роды свободы,
задыхающейся без кислорода.
Хорошо, что ворвался шипучий
свежий воздух в российское слово,
от него нам не сделалось лучше,
но начальникам стало хуево.
Усталы, равнодушны и убоги,
к мечте своей несбыточной опять
плетемся мы без веры и дороги,
мечтая перестать о ней мечтать.
Судьба рабов подобна эху —
рабы не в силах угадать,
мед или яд прольется сверху
и сколько длится благодать.
Душа не призрак-недотрога,
в душе текут раздор и спор:
в ней есть бурчание, изжога,
отрыжка, колики, запор.
Еврей живет пока неплохо,
но век занес уже пращу:
— Шерше ля Хайм, — кричит эпоха, —
сейчас я вмиг его прощу!
Сокрыто в пьянстве чудо непростое,
столетия секрет его таят,
оно трясет российские устои,
которые на нем же и стоят.
Я горе хотя и помыкал,
но пробыл недолго в тюрьме,
а вылетя, вновь зачирикал,
копаясь в любимом дерьме.
Судьба разделится межой,
чужбина родиной не станет,
но станет родина чужой,
и в душу память шрамом канет.
Еще на поезд нету давки,
еще течет порядок дней,
еще евреи держат лавки,
где стекла ждут уже камней.
Власть невольно обездолила
наши души вольных зэков,
когда свыше нам позволила
превращаться в человеков.
Под сенью пылкой русской дерзости
и с ней смыкаясь интересом,
таится столько гнусной мерзости,
что мне спокойней жить под прессом.
Китайцы Россию захватят нескоро,
но тут и взовьется наш пафос гражданский,
в России достанет лесов и простора
собраться евреям в отряд партизанский.
Он мерзок, стар и неумен,
а ходит все равно
с таким лицом, как будто он
один лишь ел гавно.
Когда протяжно и натужно
рак на березе закукует,
мы станем жить настолько дружно,
что всех евреев — ветром сдует.
Смотрю, как воровскую кинопленку,
шаги моей отчизны к возрождению;
дай бог, конечно, нашему теленку,
но волк сопротивляется съедению.
За личных мыслей разглашение,
за грех душевной невредимости
был осужден я на лишение
осознанной необходимости.
Потом прощен я был державой
и снова вышел на свободу,
но след от проволоки ржавой
болит и чувствует погоду.
Скисает всякое дерзание
в песке российского смирения,
охолощенное сознание
враждебно пылу сотворения.
Когда укроет глина это тело,
не надо мне надгробие ваять,
пускай стоит стакан осиротело
и досуха распитая ноль-пять.
Еврей, возросший в русском быте,
не принял только одного:
еврей остался любопытен,
и в этом — пагуба его.
Скудно счастье оттепельных дней:
вылезли на солнце гнусь и мразь,
резче краски, запахи гавней
и везде невылазная грязь.
Какие бы курбеты с антраша
искусство ни выделывало густо,
насколько в них участвует душа,
настолько же присутствует искусство.
Моя еврейская природа —
она и титул, и клеймо,
она решетка и свобода,
она и крылья, и ярмо.
Раньше вынимали изо рта,
чтобы поделиться с обделенным,
русская былая доброта
выжглась нашим веком раскаленным.
Мираж погас. Огонь потух.
Повсюду тишь недужная.
В дерьме копается петух,
ища зерно жемчужное.
Увы, с того я и таков
на склоне лет,
что время учит дураков,
а умных — нет.
Слухи с кривотолками,
сплетни, пересуды,
вязкие потоки
пакостных параш —
льют пустопорожние
скудные сосуды,
злобясь, что в соседних
пенится кураж.
Я знаю дни, когда нечестно
жить нараспашку и заметно,
когда все мизерно и пресно,
уныло, вяло и бесцветно.
В такие дни, умерив резвость,
лежу, спиной касаясь дна.
Периодическая мерзость
в те дни особенно вредна.
Майский фейерверк
брызжет в декабре,
начат новый опыт,
веет свежий дух;
дождики в четверг,
раки на горе,
клеваные жопы,
жареный петух.
В нашей почве — худородной, но сочной
много пользы для души и здоровья,
и на дружной этой клумбе цветочной
лишь евреи — как лепешки коровьи.
Сменив меня, теперь другие
опишут царственную Русь,
а я очнусь от ностальгии
и с Палестиной разберусь.
Забавно мне, что в те же годы, когда я писал эти стишки, не веря, что такое счастье, как свобода, может наступить даже в России, были поэты, заклинавшие Бога (и православного, и Бога вообще), чтоб ничего не изменилось. Ужасно интересно вспоминать сегодня один трогательный стих того времени достославного Станислава Куняева: