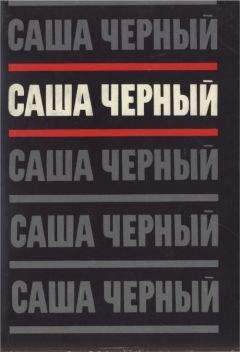Саша Черный - Том 4. Рассказы для больших
Прошел цыганскими закоулками к своей столовке, — русско-еврейская ресторация у меня на примете была под навесом. Подсел к посетителю, вижу — по обличью земляк, — на блюдечко дует, тушеную морковку ест, селедкой закусывает. Сразу все три удовольствия. Из охотников тоже: рядом на скамейке пакетик в газете. Понимаем. Поболтали, как водится: что, мол, с Индией будет, то да се. О покупках ни-ни. Не принято это на блошином рынке, да и каждый свою усатую бабу для себя впрок бережет, что же ее каждому прохожему подбрасывать.
Ем, обжигаюсь, домой тороплюсь, — уж, наверно, жена ахнет, она у меня со вкусом, керченскую прогимназию с серебряной медалью кончила… Хочу рассчитаться, а тут, как назло, хозяйка на старый мотоциклет села, какому-то рабочему-покупателю показывать. Мотор под ней на холостом ходу гудит, шея и все прочее трясется, груз тоже немалый… Слезла, сунул я ей, что следовало, корж с маком для жены прихватил, пакет под мышку и ходу.
* * *Еду домой, в вагоне пусто. Народ на рынке только в самый раж вошел, другие до вечера бродят, пока какую-нибудь дефективную гайку к своей кофейной мельнице не подберут. А у меня чистая эстетика, радость глазам. Где ее в серой жизни увидишь? Обои хозяйские — кишки в сметане, — мебель с выкрутасами, стиля царя Навуходоносора, когда он ума лишился и траву стал есть. Черт его знает, до чего у этих хозяек склонность этаких сосновых верблюдов под красное дерево по всем углам тыкать… Прижимаю свой предмет, — то-то камин заиграет… Пальцами сквозь газету любовно прощупываю: вот она дамская головка, а с другого края выпуклость, — пастушок в любовной позиции пребывает.
Приехал домой, первым делом жене корж с маком, внимание в домашнем быту прежде всего.
— Опять бокал без ножки купил? — спрашивает.
— А вот ты полюбуйся! Только осторожнее разворачивай.
Сунул ей пакет в руки, а сам, чтоб эффекту не мешать, отошел в умывальное стойлище дезинфекцию лица произвести.
Развернула она, молчит.
— На марку, — говорю, с исподу посмотри. Две синих кильки накрест. Плохо?
— Целоваться мне с твоей маркой что ли? И так квартира вся хламом завалена… Младенец лысый.
— При чем тут, — отвечаю, — моя прическа? И почему же хлам? — Даже губы у меня от обиды пухнуть стали. — Для твоего же удовольствия купил. Сама жаловалась, что на камин поставить нечего…
— Чтоб я такую дрянь на камине держала?
— Дрянь?! Понимаете?.. В глазах у меня марсельское мыло и слезы, схватил я пальто, в боковой карман вместо рукава рукой тычу и к дверям.
— Спасибо, матушка, за воскресную ласку. Ноги моей, здесь… до самого вечера не будет.
А она в затылок:
— И без твоей ноги обойдусь. Покупку свою с собой прихвати, авось такого же сумасшедшего на улице встретишь, подаришь.
И мне вдогонку фарфоровыми часами — хлоп! Так и хрустнули. Обернулся я, рот раскрыл, воздуху не хватает… Посмотрел под ноги… и опустился на табуретку, на электрический стул.
Жены народ известно какой: то словами тебя, как утюгом по голове, то валерьянку в нос суют. И у самой слезы — покрупней моих, так жемчугом японским и катятся.
— Что ты, Володя, Господь с тобой… Из-за чего ссориться? Ну, купил, я не спорю, чего только мужчины, когда они одни беспризорными бродят, не покупают. Снимай-ка пальто, у меня и кофе готов, и пирожки дошли.
Вижу, действительно ссориться не из-за чего: вместо Людовика Девятнадцатого на полу… заржавленные детские коньки валяются. Каминное, так сказать, украшение. Потрогал ногой. Звякнуло. Галлюцинация звуков не издает.
Встряхнулся я, сообразил: это ж я вместо своего пакет земляка прихватил, — очень уж похожи были, а ему именинный подарок сделал! Что ж, хоть русскому в руки попадет, Христос с ним…
А жене этак ласково объяснил, даже на улыбку сил хватило:
— Ты уж, Катюша, меня извини. Пошутил я насчет камина довольно топорно. Я же не Белинский, построчной платы с тебя не требую… А коньки действительно дрянь, — и детские, и климат в Париже неподходящий. Зато дешево: два франка! Другие в Монте-Карло больше спускают. Я их, дружок, керосином отмою и племяннику на Рождество в Прагу пошлю. У них там, говорят, зимой окрестности по Реомюру замерзают…
И локоть у нее же, обидчицы, поцеловал. Локоть у нее ничего, дай Бог каждой… О прочем умолчал. Потому у меня система такая: раз муж расстроился, сам себе в кашу наплевал, — переживай один, незачем близкому человеку единственную печенку портить… Всегда так, сударь, поступаю и другим советую.
1930
Париж
ЧЕЛОВЕК С ЗАВЯЗАННЫМИ УШАМИ*
(РАССКАЗ ОФИЦЕРА)
Русский полковник посмотрел на лежавший на столе томик рассказов Эдгара По и усмехнулся:
— Ужасов с три короба наворочено… Другая старая дева всю ночь ворочаться будет, не уснет. То ее будут в подвале живьем замуровывать, то стальным маятником сердце перепиливать. Театр Гиньоль, пять франков за вход, нижние чины и дети платят половину. А между тем милая наша жизнь, с четырнадцатого года начиная, такие полотна разворачивала, что никакому Эдгару По, — даром что он себя наркотиками подстегивал, — не угнаться… Война хороша, а революция и того хуже.
— Вот здесь, среди нас, разные личности пребывают. Иные, помоложе, только по краю прошлись, в самом котле не кипели. Порой сам себе удивляешься: как шкура выдержала, как сердце не озверело, как в добрые будни опять вошел не на четвереньках, а на двух ногах, как человеку полагается. И не в ужасах, разумеется, дело, будь они трижды прокляты, а в том вечно волнующем вопросе, о котором много лет назад еще Короленко писал: каким образом средний, обыкновенный человек, — скажем, солдат Рябошапка, — милый и сердечный человек, а порой и самоотверженный герой не хуже любого спартанца, вдруг превращается в бешеную свинью…
Так вот, если угодно, позвольте для иллюстрации привести некоторый эпизод, в котором я был главным действующим лицом… Выскочил я, правда, благополучно, как рыба, которой удалось через сеть перелететь, — и вот сижу с вами, разговариваю, пью чай. А сколько иных-прочих в неволе застряли, одному Господу Богу известно…
— Было это осенью семнадцатого года, в самую карусель между двумя жерновами: война — революция. Впрочем, первый жернов тогда еще еле двигался, а второй уже стал молоть вовсю. Полк наш только что сменился с позиции. Как сменился — и вспоминать не стоит, — пожалуй, одна прореха на нашем участке осталась. Расположились мы на расползающейся грязью на этапном пункте в каком-то эстонском городишке. Власти у меня никакой, — вроде безрукого капельмейстера в волчьей стае. Солдатня вся чужая. Пополнение за пополнением. Свои все либо перебиты, либо ушли. А кто и остался — зубы оскалил, точно это я, подполковник Каблуков, и войну объявил, и кончать ее не желаю… Заправлял всем полковой комитет, а я при нем подневольным консультантом состоял по строевой и хозяйственной части. Не отпускали. Манера такая тогда была: мозги свои нам отдай, а сам сократись до макового зерна. Чем мог, я им, комитетчикам, помогал, — ведь русский корабль ко дну шел, какое уж тут самолюбие. И сам комитет, власть получив, подтянулся, и кое-как линию выпрямить хотел. Ничего, разумеется, не вышло: поджечь — всякий дурак сможет, а потушить — попробуй… Так и осталось у меня в памяти до последнего часа серая эта тогдашняя расхлябанность: рев, митинги, казармы и двор вроде всеобщего отхожего места в доме сумасшедших… И все порасстегнуто: хлястики, уши на папахах, крючки, погоны, глотки… Даже до сих пор тошнит, чуть вспомнишь.
Понял я твердо — надо какое-либо решение принимать, если не хочешь для каждого бесноватого холуя в ватных штанах плевательницей быть. Другой, черт, даже и на позициях не успел побывать, а уж он, изволите видеть, жертва мировой войны, и ты из него, как вурдалак, всю кровь высосал… Кругом расправы пошли одна другой подлее и бессмысленнее. Офицер? Будь ты хоть святого Себастиана невиннее, с ног долой и каблуками по черепу. А уж там, в свое время, история разберет, в какой процент законных жертв революции ты попал и на каком основании…
— Что ж делать? Стреляться?.. В Орле меня жена да дети ждали. Ужели их в самый шквал бросить? Да и гордость на дыбы встала: не все место под солнцем им принадлежит, — авось и для меня останется. Долг свой до конца исполнил, лямку дотянул, а в этой дрызготне ни мозгам, ни совести делать нечего. Переговорил я с некоторыми из комитетчиков: так и так, нужен я вам теперь, как гвоздь в печени. Грузовик кверху колесами в канаве лежит… Руль на крыше… Желаю вам полного успеха, а меня увольте… Народ был неглупый, кой-кто из писарей наших да из вольноопределяющихся. Тоже и им несладко было, и сердца еще не потеряли. — «Ладно. На завтра назначим комиссию… В самом деле, уходите, господин полковник, от греха подальше…»