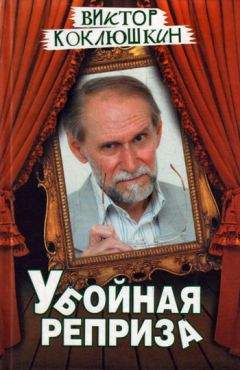Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 52. Виктор Коклюшкин - Коллектив авторов
Монетка как-то криво взлетела и — упала в колодец.
— Ну, ты даешь! — с досадой, укором и восхищением сказал Валентин. — Ну… теперь моя очередь.
Померанцев достал три рубля.
— Так бумажка же… — сказал Валя.
— Больше нету, — похлопал себя по карманам Николай Николаевич. — В самолете оставил…
Валентин взял три рубля, помял их, вздохнул. Многое вспомнилось в эту минуту: и как на последний трешник, бывало, брал бутылку красного, и как счету не знал трешницам (да что трешницам — четвертным!), получая на скважине зарплату с надбавками за дальность, за вредность, за глубину, за мир во всем мире!
Еще вспомнилось, как почтальон приносил бабушке пенсию… Бабушка в тот день наряжалась: повязывала чистый платок и с утра садилась у окна ждать. Почтальонша появлялась не раньше полудня.
— На, распишись, — говорила она как провинившейся.
— Дык, я слепая совсем, — врала бабушка в очередной раз, скрывая свою безграмотность, — вот внучек за меня распишется, можно?
— Ну пусть внучек, — безразлично соглашалась почтальонша. И давала бабушке три трешницы — пенсию за убитого на войне мужа. А сама-то бабушка пенсию не получала, справок каких-то все не хватало, а ходить по начальству — это ж сколько людей от дела отрывать!
Многое вспомнилось Валентину. И не подкинул от трешницу вверх, а бережно расправил и отдал Николаю Николаевичу.
— Спасибо, — сказал зачем-то и стал развязывать на себе веревку.
Николай Николаевич вздохнул. Вот и все разрешилось — лезть ему! Он сел на край колодца, спустил одну ногу, другую, помедлил и… оттолкнулся. Больно ударился коленкой, веревка впилась в тело. Он стиснул зубы.
— Травлю помалу! — крикнул Валентин. — Два рывка — сигнал вытаскивать!
Померанцев спускался. Все темнее и холоднее становилось. Даже веревка промерзла и жгла ладони. Вытягивая ногу, он всякий раз ожидал нащупать дно. Дна не было…
Надя, наклонившись, смотрела ему в затылок, и вот уже не видно Н.Н. Померанцева. Только угадывается во тьме какое-то шевеление… Веревки оставалось совсем мало, и, наконец, она натянулась в руках у Валентина. Тяжело и безнадежно. Что делать? Буровик ждал сигнала — его не было.
— Николай Нико-ла-ич!.. — позвала Надя. — Вы где-е?!
И ответа не было тоже.
Померанцева выволокли еле живого. Синий, на ушах иней, под носом сосулька.
— А Михалыч?.. — у Валентина дрогнул голос. — О-он… где?
— М-мих-халыч… — Николай Николаевич опустил глаза и потянул с головы шляпу.
— Николай Николаевич, наденьте головной убор! — взмолился Валентин.
— Ва-Ва-Валя… На-На-Надя… — Померанцева колотил озноб, иней таял на ушах и стекал капельками за шиворот. — Ч-человеческий орг-га-низм не с-спос-собен выдержать с-столь низ-кие температуры. А-а-апчхи!
— Николай Николаевич, наденьте головной убор! — не успокаивался Валентин. — Я прошу вас: наденьте!
— Он всегда был такой добрый… такой… — у Нади на глазах набухли слезы, подбородочек задергался.
— Есть! Есть, а не был! — заорал Валентин. — Что вы… его хороните раньше времени!
— Он всегда… есть такой добрый… такой… хороший… — повторила Надя, и быстрые, обильные слезы выкатились у нее из глаз.
Она вдруг вспомнила папу с мамой и бабушку, и так ей стало страшно, что и они когда-нибудь умрут, что упала она Валентину на грудь и разрыдалась. И стояли они оба оглушенные. И не было их роднее и несчастнее в эту минуту никого во всей Атлантиде!
Я задыхался. Руки хватались за первое попавшееся: рычажки, кнопки, стены… Рагожин плечом пытался выбить прочную дверь. Бесполезно. Мы были обречены. Оставались секунды, в лучшем случае — минуты, и их надо было провести достойно. Не перед другими — перед собой отчитаться и доказать, что жил ты не зря и умер не в позоре.
— Давай прощаться, — сказал я Рагожину. — Прости, что втянул тебя в эту… в эту… — дышать было трудно, рот набит слюной, — в эту авантюру…
Сказал — и стыдом обожгло за свое предательство, хоть и не нарочно употребил это слово, от обиды. Рагожин утробно, с надрывом закашлялся. Наконец ему удалось обрести речь.
— Витя… — он впервые назвал меня по имени. — Спасибо тебе… я хоть умру по-человечески… — Он пошатнулся. — Вот и кончилась жизнь, Витя… а правильно ли я ее прожил? Понимаешь… — Рагожин говорил, мучительно вытягивая шею, — понимаешь. Витя… мне думается, я жил правильно, но скажи: почему так трудно?.. Витя, кх-кх-кх!.. ты слышишь меня?.. Неужели жить честно — значит обязательно трудно? Витя, ты слышишь, ты понимаешь?! Витя, почему я никому был не нужен?! Ведь не может быть, чтобы я родился по ошибке, ведь в природе все разумно, рационально… кх-кх… Витя, ты слышишь, ты понимаешь меня?! Витя?! — он задыхался, хватал себя руками за горло. — А если… если я родился тут… в Атлантиде?! Значит, я был нужен тут!.. Витя, ты слышишь — тут!..
Он взмахнул руками, пошатнулся, упал на стену и, скребя по ней ногтями, сполз на пол.
А газ густел. Он откуда-то выбивался с легким, зловещим посвистом. Он был мутен, и желтый фонарь светил, будто лампочка в бане.
Силы покинули меня. Удерживало одно — не было предчувствия конца, было чувство ожидающей большой неприятности и моей вины. Я ткнул еще в какую-то кнопку и… услышал голоса. Голоса людей!
Я остолбенел. Они говорили по-русски…
— Похож на буровую установку… — говорил мужской голос.
— Жуткий очень!.. — вторил мужскому женский.
— Осторожнее! Прошу вас, будьте осторожнее! — встревоженный и заботливый (чуть, кажется, простуженный!) голос… Николая Николаевича По-ме-ран-це-ва!
Да, это были они! Горло перехватило спазмом, как петлей. Я понял: еще немного, и потеряю сознание. И застучал, заколотился об стену…
— Ломайте дверь! — услышал голос Николая Николаевича. — Быстрей!
Раздались удары по корпусу чем-то тяжелым (Валентин, что ли, кулаком громил?). Корабль сотрясался от грохота, как в лихорадке. Рагожин зашевелился, застонал.
Дверь пискнула и отошла, распахнулась. Плеснуло в глаза солнцем, дохнуло воздухом. Я зажмурился, закрыл лицо руками и уже не отпускал их, чтобы не показать выступившие на глазах слезы…
В прежней жизни я редко плакал, так же ред ко и смеялся. А во время экспедиции чувства, переполнявшие меня, то проливались слезами, то выплескивались смехом. Никогда потом я уже так часто не плакал и не смеялся.
А в корабль уже ввалились наши спасители.
— Они живы! Они живы! — Надя перебегала от меня к Юре, трогала нас, гладила, целовала в грязные щеки.
— Фу! — морщился Валентин, будто только на запах. — И чем тут воняет?! Чем-то знакомым…
…Мы сидели на холме. Тень звездолета маячила рядом, будто подслушивала. А мы пытались догадаться, высказывались разные предположения, вплоть до того, что корабль не инопланетный, а наш — земной, что цивилизация в Атлантиде достигла небывалого уровня. Эту гипотезу высказала Надя (как-то в ней уживалось: вещи носила заграничные, а все самое лучшее в мире считала — нашим!).
Юра не мог сидеть, прилег — сильно отколошматил себе плечо об люк.
— Не верится, что Михалыч погиб… — сказал, морщась, — если уж я остался жив…
С вершины холма окружающая панорама выглядела мирно и по-рекламному заманчиво. И если бы кто-то заснял нас на пленку, у будущих зрителей создалось бы идиллическое настроение, а у некоторых, возможно, даже появилось назойливое чувство зависти к недоступной, шикарной жизни. А нам было несладко…
— Нужно поставить Юру как можно скорее на ноги, — сказал Померанцев.
Собрали по карманам у кого какие таблетки, заставили его прожевать и проглотить. Сказали: «Надо!» Подействовало. Через пять минут вскочил и, сконфузясь, побежал на другой склон холма. Вернулся с вдумчивым выражением лица.
— Для начала надо детально осмотреть корабль, — сказал обиженно.