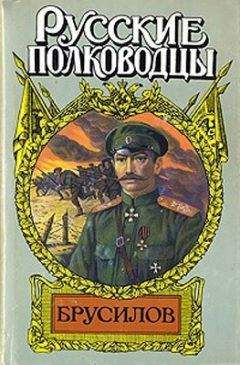Юрий Слёзкин - Козел в огороде
Ругался он беззлобно, но вкусно, со знанием дела, и почитал даже ругань своею отеческою обязанностью, неким общественным долгом.
— Наш громадянин что осел, не раздразнишь — не побежит,— уверял он.— Ой, и много же нам треба маяться до того часу, как он со сна очи протрет. Одно слово, мещанское болото.
Любил также Клуня обличать и местную власть, которой в лице предисполкома, начмилиции, начугрозы и прочих читал соответствующие нотации. Однажды за слишком резкие суждения о кое-какой утечке Клуня отсидел неделю в холодной, но это наказание ничуть не охладило его гражданского мужества. Комсомольцы назвали его живой газетой. Клуня гордился этим прозвищем, а сам именовал себя громкором — громадянским корреспондентом.
Эта кличка осталась при нем навсегда. Случилось ему даже один раз выступить в качестве оратора. Приехал к нам с лекцией «Нужна ли церковь» некий поп-расстрига. Набилось публики в летний театр до отказу. Лектор весьма подробно рассказал, как он, будучи священником, драл за требы с живого и мертвого, как давал бабам руки целовать и как после революции во всех своих мерзостях раскаялся. Часть публики начала над ним посмеиваться, что вот, мол, знает поп, когда что выгодней — при царе на амвоне богу молиться, а при советской власти со сцены бога лаять; другая же часть решила тут же за божью честь заступиться. Началась катавасия не на шутку, кое-кто в дело стал кулаки пускать, а Клуня махнул прямо из партера на подмостки и зычным своим басом разразился следующей краткой, но весьма убедительной речью, первой и последней в своей жизни:
— А ну, товарищи громадяне, цыц мени и слухайте. Скажу вам одно: что бога нет, так это давно я знаю, что тый поп-растрыга — жулик, так это я тоже сразу взял на заметку, а вот что вы таки дурни, шо этому жулику гроши платили и рады с его брехни чубы друг другу повыдрать, так этого я еще не догадывал.
Речь возымела свое действие. Публика засмеялась, зааплодировала, лектор улизнул за кулисы, а Клуня, похлопав себя по лбу, добавил: «Вот где у меня церковь» — и снова спрыгнул в партер.
Но все же не думайте, что Клуня целиком и без остатка ушел в одну лишь общественность. Нет. И у него были свои слабости, которых он хотя и стыдился, но все же не мог изжить. Слабости эти были вполне личного индивидуалистического свойства и все объединялись одним пристрастием. Пристрастие же это носило имя — Сонечка Нибелунгова.
А так как Сонечка Нибелунгова сидела ежедневно или от десяти утра до шести вечера, или от шести вечера до одиннадцати в кондитерской Близняка за прилавком, то понятно, что почтальон Клуня не пропускал тоже ни одного дня, чтобы мимоходом не заглянуть в кондитерскую и не перекинуться с нею двумя-тремя словами. Правда, Сонечка вела весьма обширную переписку и частенько получала письма от подруг и поклонников, но все же столь частое посещение почтальоном кондитерской не могло быть оправдано лишь обязательной доставкой корреспонденции. Злые языки, которых и в нашем городе достаточно, рады были случаю поехидничать насчет неспокойного пятидесятилетнего сердца, но Клуня умел со свойственной ему прямотой пресекать такие разговоры совершенно резонными замечаниями, вроде:
— Свинья и на солнце грязь найдет.
— Мое сердце хоть старо, да крепко, а твое молоденько, да кирпато {10}.
Как бы то ни было, Клуня в этом своем пристрастии выказывал себя истинным, бескорыстным ценителем красоты.
Входя в кондитерскую, он встряхивал рыжей гривой, выпрямлял плечи и, возгласив веселой октавой: «Доброго вам денечка, Софья Ивановна», оглядывал посетителей, которые неизменно толпились в кондитерской, быстрым, приметливым, критическим взглядом. Убедившись, что все обстоит благополучно, что Сонечка в добром, даже цветущем здоровье, что среди посетителей нет никого, кто бы мог перейти ему дорогу по части сообщения новостей, Клуня или подавал Сонечке Нибелунговой письмо, если таковое имелось, или просил дать ему пирожок с творогом, когда был при деньгах, или же просто заводил приятный разговор о состоянии погоды и мелких городских происшествиях.
А Сонечка тем временем ходила вдоль стойки, накладывая в лубяные коробочки пирожные, или разносила по столикам чай и кофе, улыбаясь направо и налево, подергивая плечами, отчего за спиною извивались золотисто-каштановые змеи ее тяжелых, длинных, тугих кос.
Здесь, однако, будет уместно заметить, что Сонечка Нибелунгова вовсе не считала дежурство в кондитерской своим призванием. Напротив, работала она скрепя сердце и с болью душевной, так как знала себе цену и еще с четырнадцати лет решила бесповоротно, что создана киноактрисой. Настольное зеркало в ее девичьей комнате каждодневно напоминало ей, что лицо ее фотогенично, что кожа на щеках у нее гладка, как полированный розовый коралл, что губы ее тщательно выписаны кропотливым художником, что нос ее хотя и чуть вздернут, но выразителен, а глаза каждым своим поворотом говорят из-под длинных темных ресниц. Проверяя свои фотогенические способности, Сонечка, что ни день, причесывалась по-иному: она то пускала вдоль щек локончики в виде штопора, подняв на макушке тяжелый узел волос снопом спелой пшеницы, то, разделив на скромный пробор, зализывала прическу волос к волоску, скрутив косы на затылке морским узлом, то обвивала голову тугим сплетенным кольцом, то просто бросала косы за плечи. В этой области Сонечка была воистину гениальна. Правда, иные, как бы мимоходом, замечали, что гениальность ее этим только и исчерпывалась, что природа, истощив свои силы на одном, обделила Сонечку во всем остальном, что, гениально причесываясь, можно быть недурной продавщицей в кондитерской, а отнюдь не сносной киноактрисой, но тут уж я даже и не стану спорить, а просто отправлю маловерных в столичные наши киноателье. Пусть-ка они там кое над чем понаблюдают, сделают соответствующие выводы. Кстати, с ними следовало бы отправить Сонечкиного папашу, почтенного кондитера Близняка, который тоже упрямо не хотел считаться с призванием своей дочери. Он, пожалуй, и не возражал против ее гениальности (каждому отцу лестно иметь гениальную дочь), но все же предпочитал держать ее при себе. Во-первых, это сокращало число его служащих, во-вторых, давало ему уверенность, что Сонечка «честно выйдет замуж не для алиментов, а обеспеченно на всю жизнь».
Сонечка должна была отступить перед экономическим фактором (папаша ее не платил ей жалованья, и ей не из чего было скопить на дорогу и жизнь в столице, а поступить на другую службу она не могла, не будучи членом союза — как дочь хозяйчика), но все же она сумела отстоять свое гражданское лицо, не без некоторого риска для себя. Когда ей стукнуло восемнадцать лет, она дала объявление в губернской газете о желании своем переменить фамилию, после чего стала называться не Софьей Близняк, а Софи Нибелунговой. В этой новой фамилии, несомненно, было нечто кинематографическое. Самый же факт перемены фамилии показался нашим обывателям настолько дерзким, что Сонечка действительно могла почесть себя героиней. Отец едва не выгнал ее из дому, а поклонники поднесли ей корзину цветов в предвидении ее будущих кинотриумфов.
С той поры популярность ее росла. Сонечка стала в нашем городе величиной заметной и во многих вопросах авторитетной. К ней обращались за советом перед тем, как заказать новое платье или переменить прическу, ее приговора ждали местные любители после разыгранного ими спектакля, и даже пожилые обывательницы справлялись у нее, в каких пределах допустимо укорочение юбок.
Три человека предлагали ей руку и сердце, маня ее честным загсом,— начальник милиции Табарко, член правления кооператива Добржанский (из бывших панков) и Коля Егунов — драмстудиец из Харькова. Но Соня Нибелунгова отказала всем трем, ответив каждому из них одно и то же:
— Любовь — мещанские предрассудки; брак в наше время — уродливый пережиток, а влечение полов — мерзость.
Получив такой решительный отпор, начальник милиции Табарко запил, Добржанский выписал себе из Берлина вязаный жилет, а Коля Егунов самозабвенно отдался футболу, примкнув к местной комсомольской команде, и даже заразился ее духом пренебрежения к обаянию личности, хотя бы такой дерзостной и гениальной, как Сонечка Близняк — Нибелунгова тож.
Глава пятая
Что удостоверил громкор
На сей раз почтальон Клуня появился в кондитерской поистине как вестник из греческой трагедии. Огромный, златокудрый, босой, с жезлом, чуть что не увитым лаврами (Клуня всегда ходил с большой березовой суковатой палкой, вырезанной им самолично по росту), с ременной сумкой у чресл, он остановился на пороге, освещенный сзади пламенеющим солнцем и потому как бы окруженный сиянием, и обвел присутствующих торжествующим, всепокоряющим взглядом. Невольно все обернулись в его сторону, и до этого шумная и веселая компания, окружавшая Сонечку Нибелунгову, настороженно притихла. Но Клуня, видимо, хотел выдержать марку. Он снисходительно кивнул головой и, подойдя к стойке, попросил «стаканчик шипучей водички». Выпив сельтерскую единым духом, крякнул, выложил на прилавок пятак, сдержал подступившую икоту, скромно прикрывши рот ладонью, и только тогда проговорил, ни к кому в частности не обращаясь: