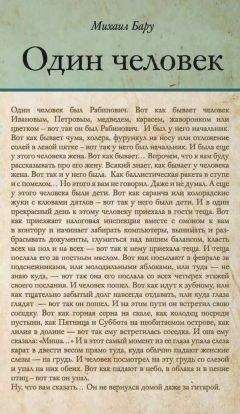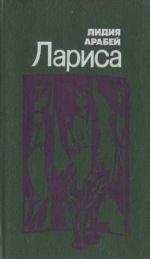Михаил Бару - Записки понаехавшего
Раз уж зашла речь о советском периоде, невозможно не упомянуть часы, подаренные рабочими Путиловского завода товарищу Сталину к пятнадцатой годовщине октябрьских событий семнадцатого года. Сами путиловские рабочие технологией изготовления часов с кукушками не владели, а потому заказали их германским пролетариям-часовщикам. Те сочинили механизм, у которого главным действующим узлом была точная копия носового орудия крейсера «Авроры», стрелявшая каждый час холостыми зарядами. Специальная комиссия, осматривавшая все подарки Сталину, пришла в ужас от действующего корабельного орудия, пусть и крошечного, стреляющего холостыми. Приказано было в срочном порядке все переделать. Переделали. Вместо пушки выскакивал Ленин и, размахивая кепкой, что-то картавил. Когда разобрали, что он там картавил… Потом, в девяностых годах, всех, конечно, реабилитировали.
Часы с кукушкой настолько прижились у нас, что Россию с полным правом можно считать их второй родиной. Есть в музее такие модели часов, которых и в самой Германии нет. Часовщиками Первого Московского часового завода по просьбе одного из наших космонавтов был разработан специальный орбитальный вариант часов. Хотели было даже запустить его в серию, но, к сожалению, часы, хоть и были сделаны с отменным качеством, не выдержали испытаний — кукушку в условиях невесомости все время тошнило мелкими винтиками, пружинками и гаечками, а чугунные гирьки и вовсе не могли найти себе места.
Рядом с космическими часами находятся еще одни редкие часы, сделанные неизвестным мастером этого же завода в свободное от работы время из сэкономленных деталей для личных нужд. Взяв самые обычные, серийные часы, он заменил кукушку женской фигуркой в бигуди и кухонном фартуке. Каждый час эта женщина, по воспоминаниям близких друзей мастера, очень похожая на его жену, произносила какую-нибудь новую фразу. К примеру, в половине второго она могла просто выкрикнуть «Бездельник!», а уже в два часа сказать целое предложение, вроде «Куда дел зарплату?!». К одиннадцати вечера она высовывалась по пояс из дверки и механическим голосом бормотала «Мне завтра рано вставать», а в полночь — «Голова болит…»
Невозможно в столь кратком рассказе хотя бы мельком упомянуть обо всех заслуживающих внимания экспонатах. Все же задержимся напоследок возле неприметных часов, мимо которых обычно проходят даже те любознательные посетители, которые фотографируют чаще, чем моргают. Грубо сделанные, эти часы напоминают самые первые немецкие «механизмы» с нарисованным циферблатом и гвоздиками-стрелками. Нет в них никакой кукушки, и даже дверца, из которой она должна выскакивать, нацарапана нетвердой, наверное, детской рукой на фанере, точно очаг в каморке папы Карло. К палочке, прибитой перпендикулярно дверце, пластилином прилеплены кое-как видавший виды поцарапанный одноногий оловянный солдатик и картонная танцовщица. Ничего они не говорят ни каждые полчаса, ни час, ни даже в полдень или полночь. Не делают никаких замысловатых па руками и ногами. Просто стоят и не отрываясь смотрят друг на друга. И время вокруг них тоже остановилось. Думаете, так не бывает, чтобы время остановилось? Маловеры. Еще как бывает. Просто надо смотреть друг на друга не отрываясь.
* * *Залы музея современной истории России расположены в таком художественном беспорядке и так затейливо, что напоминают известные гравюры Мориса Эшера. Путешествуя по ним, оказываешься то во временной петле, то проваливаешься в какую-то временную дыру, то запутываешься во временном узле. Проходя каким-то крошечным полутемным залом или коридорчиком, я вдруг заметил чучело собаки Козявки в космическом скафандре. Маленькая белая собачка, о которой известно только то, что в пятидесятых годах наряду с Белкой и Стрелкой… На самом деле, не наряду, а рядом и даже чуть впереди. Козявка была капитаном КГБ. Именно она присматривала за Белкой и Стрелкой во время полета. Следила, чтобы они не гавкали лишнего по каналу космической спецсвязи. Ну и приземлились в заданном районе, а не там, где приземлились Шарик и Ролик… впрочем, это дело еще не открыто, и я не должен знать, где они приземлились. А уж писем, которые они писали из того места, где приземлились, и которые ходили в самиздате, тем более не читал. Правда, стараниями американских и канадских историков… Но вернемся к Козявке. За мужество и героизм при выполнении служебных заданий ей было присвоено высокое звание собака-космонавт Советского Союза, и она была награждена именным ошейником с серебряными накладками. Отдельным указом к кличке Козявка, с преобразованием ее в фамилию, было прибавлено имя и отчество Василий Степанович, с каковыми и приказано впредь указывать капитана в списках личного состава. Увы, сфотографировать чучело Василия Степановича в музее не представилось возможным, поскольку на такую съемку разрешений никому не выдают. Музейная старушка, сидевшая рядом с чучелом, рассказала мне по большому секрету, что в музее выставлено не настоящее чучело капитана Козявки, а его двойника. Настоящее чучело до сих пор хранится в секретном собачьем некрополе ФСБ. Тут еще совершенно некстати какой-то краевед-энтузиаст раскопал, что Василий Степанович и вовсе был сукой…
Выбравшись из второй половины двадцатого века, я вдруг очутился в самом его начале, перед витриной, на которой были выложены три маленькие десертные тарелочки с портретами-шаржами депутатов Первой и Второй Государственных Дум Набокова, Федорова и Родзянки. Не столько портреты меня поразили своей карикатурностью, сколько размер тарелочек. Поди попробуй умести лицо нынешнего депутата на десертной тарелочке. Только на блюде! Зато рисовать их теперь проще — все на одно лицо.
К концу дня посетителей становится так мало, что я сам видел, как музейная старушка от скуки разговаривала с биноклем, который Чапаев подарил Фурманову. Или не с биноклем — с маузером. Они рядом лежали на витрине. Нет, они не спорили. Просто тихо о чем-то беседовали. Потом к этой старушке подошли еще две, из соседних залов. Одна из подошедших, интеллигентно покашляла и оглушительно прошептала:
— Петровна, ты, это. Оставляем тебя, значит, за старшую. Мы с Марией отлучимся пописать.
* * *
В открытом к юбилею «Доме Гоголя» на Никитском бульваре отремонтированные свежевыкрашенные и выштукатуренные комнаты с такими же свежевыкрашенными экспонатами. В каждой комнате сидит свежевыкрашенная и выштукатуренная старушка. Есть даже свежевыкрашенный макет камина, в котором Гоголь сжег рукопись второго тома. А Гоголя нет. Старушка может нажать на тайную кнопку, и в нарисованном на экране камине загорится компьютерный огонь, затрещат компьютерные листы бумаги, и еще на одном экране, над камином, начнут появляться портреты знакомых Николая Васильевича — мужчины с бакенбардами и женщины с буклями. Когда как бы рукопись как бы догорит, то портреты исчезнут…
Нет, я решительно не понимаю, зачем нам такой музей Гоголя. Да и зачем нам вообще музей Гоголя? Разве мы все не его музей? Подойди к зеркалу, посмотри на себя — видишь? Видишь! Не отворачивайся! И неча на зеркало пенять, коли… Подведи к зеркалу соседа, участкового милиционера, начальника, жену начальника — вот уже и в тесноте, и в обиде…
Когда еще ничего не было выкрашено и оштукатурено, и полы в доме скрипели так, как скрипят обычные старые полы — в той комнате, где скончался Гоголь, был абонемент городской библиотеки и стояли полки с книгами. На книгах лежала книжная пыль. Можно было вдохнуть ее и представить, к примеру, как Чичиков обедает у Собакевича. Представить индюка ростом в теленка, набитого всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем.
Да что обед! Можно было вообразить себе даже губернаторскую дочку или шинель Акакия Акакиевича, из которой вышли многие, распахнув настежь и не затворив за собой полы, отчего в ней теперь постоянно дуют ужасные сквозняки, и оставшиеся простужаются. А теперь, когда в этой комнате все восстановлено, «выглядит как новое из чистки», и за стеклом лежит посмертная маска Гоголя — хочется бежать отсюда без оглядки. Хотя… вон за дверью висит небольшая картина, на которой Иван Грозный кричит своему сыну «Я тебя породил — я тебя и убью!» — она очень даже ничего себе. Живо написана. И зря, между прочим, знатоки станут кривиться и утверждать, что такой картины не может быть, потому, что не может быть никогда. Когда жил Грозный, а когда Гоголь. Не скажу про Ивана Васильевича, но про Николая Васильевича можно утверждать доподлинно — он жил всегда и будет жить до тех самых пор, пока мы будем живы — не помрем.
* * *Кого ни спроси — каждый ответит, что Мону Лизу Леонардо писал с нее же, но мало кто знает, что пушечный мастер Андрей Чохов отливал свою Царь-пушку со своей жены, Пелагеи Афанасьевны Чоховой, в девичестве Васильевой. Пелагея была из старинного сибирского рода, ведущего своё происхождение от мифического Василиска — существа с двумя парами крыльев и о двух колесах. Конечно, к тому времени как Пелагея пошла под венец, никаких крыльев и колёс у нее уже не было, поскольку они отсохли еще в детстве, а было только одно рудиментарное колесико на… не имеет значения, где, которое впоследствии мастер Чохов любил крутить перед сном или в подпитии. Пелагея Афанасьевна была женщиной монументальной, а потому серьезной, не любящей пустого баловства с органом, который ей достался от предков. Порой Чохову так влетало за эти игры с колесиком… За глаза он супругу звал и царь-пушкой, и царь-тушкой, и просто бой-бабой. Правнук мастера, Григорий Чохов, ротмистр Ахтырского драгунского полка, писал в своих записках, что прадед даже хотел выстрелить Пелагеей Васильевной из Царь-пушки по наступающим на Москву татарам, но жена, заподозрив неладное, ни за что не хотела залезать в орудийный ствол, как ни уговаривал ее мастер хоть одним глазком взглянуть на затейливую внутреннюю резьбу. В летописи, однако, отмечено, что передовые отряды татарской конницы, разглядев в полевые бинокли[7] огромную женщину возле огромной пушки, предпочли ретироваться, и уже на следующее утро, надев фартуки и взяв в руки метлы, вышли, как ни в чем не бывало, на работу.