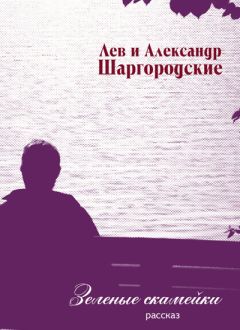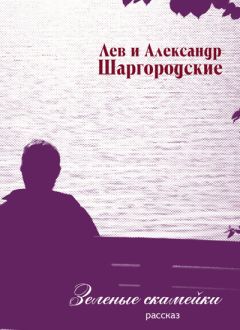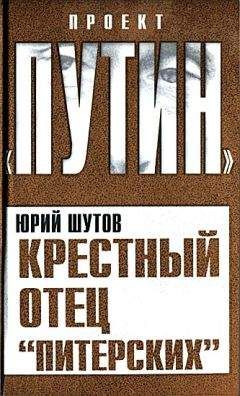Александр и Лев Шаргородские - Бал шутов. Роман
То же самое повторял и весь цивилизованный мир. И возмущался возле своих телевизоров, в своих бассейнах и на своих лошадях. Демонстрации шли и днем, и ночью. Мадам Шварц почти не спала.
Она заметно похудела.
И, тем не менее, голос ее был все еще крепок.
— Свободу Соколу! — продолжала изо дня в день требовать она.
— Свободу Соколу! — изо дня в день требовали «Комитеты в защиту Ирины и Бориса».
И даже самим Ирине и Борису уже хотелось взглянуть — какая она из себя, Свобода…
Но путь к ней, видимо, всегда длинен.
Борщ тянул.
— Не дают жить, — жаловался он Борису, — письма протеста, звонки, заявления лидеров — вы знаете, сколько их там?
— Так выпускайте, — посоветовал Борис, — сколько мне здесь еще торчать?!
— Вы уже почти на свободе, — ухмыльнулся Борщ, — осталось только немного поголодать — и все!
— Что?! — обалдел Борис.
— Голодовка протеста, — охотно объяснил майор.
— Вам мало, что я в тюрьме? Что весь мир протестует? Вам мало ссылки и тюрьмы?!!
— Голодовка! — убежденно повторил Борщ, — им надо ее подкинуть. Тогда не только вы станете настоящим героем! Но и они. Они вырвут вас из лап голодной смерти!
— Нет! — завопил Борис, — голодать я не буду! Вы лишили меня театра, ролей, друзей! А теперь хотите забрать последнее удовольствие? Никогда!
— Милый мой, — Борщ мог всегда успокоить, — да кушайте вы на здоровье! Вы только объявите голодовку, а мы вам за это будем давать особо усиленное питание. Вы какую икру любите — черную или красную?
— Баклажанную, — ответил Борис…
Ирина сидела одна у себя в комнате и тупо смотрела на стеклянное серое небо. Работал приемник.
— По сообщениям наших корреспондентов, — донеслось вдруг оттуда, — известный борец за права человека актер Борис Сокол объявил голодовку протеста. Учитывая его состояние здоровья, это может привести к катастрофическим последствиям.
Она вскочила и бросилась к телефону.
— Это вы, — кричала она в трубку, — что вы еще придумали?! Почему вы заставляете его голодать?! Он этого не перенесет.
— Ирина Константиновна, — голос Борща, как всегда, был мягок и ровен, — вы все время отрываете меня от срочных дел. Ваш муж сейчас получает обильнейшее питание.
— Это для прессы? — ничего уже не понимая, спросила Ирина.
— Для вас, — начиная раздражаться, бросил майор.
В камере горел торшер.
Борис сидел на диване и лениво впихивал в себя большой серебряной ложкой икру, которую он брал из золотого бочонка. Из другого бочонка, полного льда, время от времени он неохотно доставал бутылку шампанского, наливал в венецианский бокал и, корча гримасы, неохотно пил.
Рядом сидела Ирина.
Поодаль верещал японский транзистор:
«Пошел восемнадцатый день голодовки протеста, — печально сообщал транзистор, — выдающегося русского актера и диссидента Бориса Сокола…»
Сокол швырнул транзистор в дальний угол и тот заткнулся.
— Я больше не могу, — завопил Борис, — дайте хлеба! Селедки. Дайте воды! Я больше не могу видеть все эти шампанские и икры… Хлеба и селедки! Я, в конце концов, в тюрьме или нет?!!
Ирина не двигалась. Она смотрела в ночь, на появившуюся звезду.
— Знаешь, — сказала она, — я на многое начала смотреть по — иному. У меня в голове как — бы кое‑что поменялось.
Сокол прекратил орать и нежно посмотрел на нее.
— Может, они уже скинули бомбу? — сказал он.
Комик Леви звонил в чердачную студию гения Гуревича.
Долго никто не открывал, и Леви уже подумал, что Гарик переехал в какой‑либо более фешенебельный район, как вдруг за дверью послышались шаги и голос гения спросил:
— Кто там?
— Это я, — ответил Леви.
Гуревич открыл. Он был почти гол. На босу ногу.
— Что, настолько плохи дела? — поинтересовался Леви.
Гарик обнял его и прижал к своей груди.
— Вы вернулись в Париж, Леви? — спросил он.
— Ненадолго, — ответил тот, — я только хотел у вас спросить, какой падеж идет после творительного?
Они улыбались друг другу.
— Предложный, — ответил Гуревич.
— Вы‑таки гений, — сказал Леви, — и вы знаете, что я понял, Гуревич?..
— Не совсем, — признался тот.
— Две вещи. Во — первых, что западные дураки не умнее восточных. Они просто западнее. И второе — Галеви надо играть под другим небом. Вы меня понимаете?
— Не совсем.
— Под небом, которое слышало пророков. Вы едете со мной, Гуревич?
— В таком виде?
— Тогда прощайте. Вы молоды, Гуревич, у вас есть время острить. А комик Леви стар. Он едет в Марсель, в старый порт, и садится там на корабль. Пожелайте ему, чтобы он доплыл до своей земли.
— Я вам желаю… Я, быть может, поплыл бы с вами… Но я влюбился, Леви.
— Разрешите узнать, в кого?
— В Афродиту. С волны!
— Волны вашего моря?
— Моего, — ответил Гарик.
— Приплывайте с Афродитой, Гуревич, а?
— Я вам обещаю, Учитель, — ответил Гарик.
И они распрощались, на старом парижском чердаке, ленинградские гений и комик.
— Пусть любовь ваша, Гуревич, будет долгой, как еврейское изгнание, — сказал Леви.
Он отплывал ранним ясным утром из Марсельского порта. День обещал быть жарким, на холме проплыл Нотр Дам де ля Гард, остался позади старый порт с его продавцами рыбы, жареными орешками и раскачивающимися баркасами.
Впереди было море, жгуче синее, почти до черноты.
Леви плыл в Палестину.
Путь был далек, и много бед подстерегало его на этом пути, и три шторма хотели выкинуть его за борт.
Но он привык к бедам и штормам, старый комик.
Каждый раз, когда валили валы, когда море ревело хуже зверя, и казалось, что пришел конец миру, он начинал шептать стихи:
Открытый обезумевшей воде
Скажу я сердцу, стынувшему в страхе, —
Не бойся, Бог не бросит нас в беде,
Он, сотворивший море и людей,
Поможет нам найти пути во мраке.
Ты только верь в него!
Ты только верь!..
Он шептал и шептал слова Иегуды, и море успокаивалось.
Может, оно тоже неравнодушно к стихам, как и Бог?..
Оно успокаивалось, и он знал, Леня Леви, что доплывет до заветного берега, как доплыл до него древний поэт, развратник и мыслитель.
Он опасался одного — чтоб уже там, на суше, он не встретил сарацинского всадника…
Леви вышел на берег и пешком пошел в Иерусалим, к той Стене.
Ноги сами вели его.
Горячей щекой он прижался к жарким камням ее, и жгучие слезы полились из его глаз.
Он знал, почему…
Сокола разбудил дикий шум. Вся тюрьма сотрясалась. Грохотали сапоги. Звенели медали. По их звукам Борис догадался, что это бежит Борщ.
Он не ошибся. Двери камеры раскрылись, в них стоял, блестя лбом и орденами, сияющий майор.
— Победа! — кричал он. — Поздравляю!
Борщ напоминал Нику Самофракийскую — с крыльями, без головы.
Он обнимал Бориса, чмокал в губы, радостно плевал слюной.
— Вот! — он торжествующе протянул Соколу лист.
— Что это? — не понял Борис.
Он еще не пришел в себя от грохота, от сна, от сияния лба и медалей.
— Указ Президиума Верховного Совета, — чуть не подпрыгнул от радости Борщ, — мы вас высылаем!
— Спасибо, — произнес Борис. — Наконец‑то…
— И лишаем гражданства, — майор выхватил откуда‑то второй лист.
— А это зачем? — поинтересовался Борис, — об этом разговора не было. Нет, гражданство, будьте добры, оставьте, гражданство, понимаете ли, это…
— Перестаньте торговаться, — перебил его Борщ, — высылка идет всегда вместе с лишением, они неразлучны, как Орест и Пиллад, и не крутите мне яйца.
— Это вы не крутите, высылайте как гражданина или… вы с ума сошли! Лишить меня гражданства!
Борщ подошел, и, как всегда по — отцовски, крепко обнял Бориса.
— Это ж временно, дорогой вы мой, — ласково произнес он. — Потерпите немного. А потом вы вновь станете гражданином. Великим гражданином!
В глазах Борща горел дьявольский синий огонек…
Через час Сокол уже был в аэропорту. Ему наложили грим — несколько синяков, два — три кровоподтека, а то рожа после «голодовки» была уж слишком жирна и гладка.
Брюки ему дали драные, в лохмотьях, на грязной бечевке.
Они все время спадали, и из них появлялись старые довоенные трусы.
На голове был картуз, видимо, из чеховской пьесы.
Ирина была одета примерно так же.
Аэропорт был погружен во тьму. Мерцали огни, звезды, бешеный глаз Борща.
Он все время целовался.
То с Борисом, то с Ириной, то с какими‑то подходившими товарищами.
Товарищи тоже молча целовали Соколов.
Целование шло час, два. Потом их повели в самолет.
— Не волнуйтесь, — произнес Борщ, — все будет хорошо. Сначала поживите в свое удовольствие — рестораны, «Фоли — Бержер», Лазурный Берег… Вам во всем помогут. Наши товарищи, французские. Ну, смелее, — он подсадил их на трап, — выше голову, дети мои! Когда прилетите в Париж, не забудьте спросить: «Где это мы?» Вы летите в неизвестном направлении, ясно?