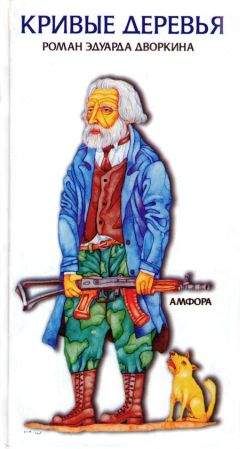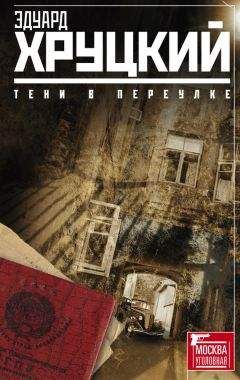Эдуард Дворкин - Государство и светомузыка, или Идущие на убыль
С готовностью откликнувшись, Брыляков переступил через починенный им порог. Еще в коридоре он ощущал дурманящий запах расцветшей флоры, воздух же внутри был спрессован ароматами настолько, что его можно было резать на части и немедленно продавать на парфюмерные фабрики.
Не имея возможности присесть, мужчины прохаживались меж толстых разноцветных стеблей.
Молчание продолжалось, и Степан Никитич, внутренно расшалившись (настроение располагало — Александра Михайловна между завтраком и обедом допустила его до себя четырежды), попытался предугадать предстоявшую ему историю.
Бритолицый господин мог бы оказаться сыном удачливого заводчика, производящего на своих предприятиях добротные суконные толстовки, бритвенные лезвия и монокли. Мать господина, едва дав жизнь младенцу, наверняка была похищена злоумышленниками и увезена в австралийские саванны, где по прошествию лет сделалась королевой аборигенов. Мать уже стара, ее зубы выпали, глаза ослепли от палящего солнца, а груди высохли — ей все труднее управляться по королевству. Она прислала ему священный бумеранг и окаменевшее яйцо птицы киви. Это — атрибуты власти. Мать зовет сына, чтобы передать ему бразды правления… Отец господина тоже одряхлел — он тучен и одышлив, с трудом передвигается, опираясь на палку, и уже начал говорить невпопад, он должен отойти от дел, которые надлежит принять сыну… все эти многочисленные заводы и мануфактуры нуждаются в сильной руке… Обритый господин стоит перед выбором, сейчас он на перепутье, но ему равно не хочется быть ни королем, ни фабрикантом. В душе своей он неисправимый романтик, ему нравится мечтать о всяких разностях и быть свободным от прочих дел…
Фигура бритолицего господина мелькала среди высоких упругих стеблей.
— Вы полагаете, вероятно, что я ботаник, — донесся, наконец, до Степана Никитича исполненный сарказма голос хозяина, — и выращиваю растения исключительно ради них самих. — Не выдержав собственного ёрничества, он прыснул в подставленный ко рту кулак. — В вашем представлении я — этакий домашний агроном, не поднимающийся в умственных рассуждениях выше формулы селитры и пропорций смешения ее с перепревшим навозом. — Он коротко, со вкусом хохотнул. — По-вашему, я — земляной червь! Крот! Червивый крот! Кротовый червь! — Распалившись, он размахивал руками, говорил и смеялся одновременно, не оставляя гостю ни единой паузы. — Но, смею вас уверить, милостивый сударь, вы жестоко ошибаетесь! Ибо сказано — глупцу труднее установить истину, чем верблюду пролезть в замочную скважину! — Господин в толстовке, нацелясь на Степана Никитича сверкающим моноклем, выстреливал слова, как из пневматической винтовки. — Так знайте же… если и интересуют меня корни, то корни эти гносеологические! По убеждениям я в высшей степени бодлеровец и выращиваю цветы зла! Природная кротость характера — не путайте с проклятым кротом! — мешает мне сражаться с существующей несправедливостью… Я нюхаю эти цветы, погружаю в них голову, втягивая ноздрями пыльцу — и праведная злость наполняет мои жилы, превращая из пассивного критика в неистового ниспровергателя. — Он страшно захохотал и, растопырив пальцы, пошел на Брылякова, счевшего за лучшее попятиться. — Пока еще — это цветочки! Но скоро — и час уже близок! — на их месте вырастут ягодки! И тогда, наевшись их до рвоты, мы осуществим задуманное! И никто — слышите вы! — никто уже не сможет нас остановить!..
Прорычавши последние слова, он прыгнул на Степана Никитича, намереваясь впиться в него зубами и ногтями. Степан Никитич, не без труда увернувшись, выскочил и прижал за собой дверь. Удерживая ее, пока удары, царапанье и воинственные крики не прекратились, он задавался вопросом, ответа на который не находил…
— Такие разные люди, — в удобный момент спросил он Александру Михайловну. — Здесь, под одной крышей… Что объединяет их всех?
Александра Михайловна просветлела лицом, подошла к оконцу, отдернула пыльную занавесь и долго вглядывалась в какие-то не видимые Степану Никитичу дали.
— Мы, — отвечала она звенящим от волнения голосом, — ячейка российской социал-демократической рабочей партии, убежденные большевики-сувенировцы. И будущее за нами!..
36
В июле Генриетте Антоновне Гагеймейстер стало ясно — войны не миновать.
Германия лязгала оружием, топала коваными солдатскими ботинками, упивалась собственной человеконенавистнической теорией и ждала только повода, чтобы всей мощью навалиться на Россию и ее союзников.
Светские приемы в большом доме на Мойке были прекращены, мужская обслуга лично Генриеттой Антоновной мобилизована в ряды действующей армии, из комнат вынесли прочь дорогую мебель, установили рядами железные панцирные кровати. Кухарки и судомойки в надвинутых на брови белых косынках рвали на бинты хозяйские полотняные простыни, учились переливать кровь и ампутировать пораженные конечности.
Генриетта Антоновна пропадала в казармах. Она зароняла в души стойкие ростки патриотизма, как могла, поднимала боевой дух, спешно проводила переаттестацию офицерского состава, учила новобранцев тонкостям штыкового боя.
Неутомимая, деятельная, жертвенно-самозабвенная, на белом коне с развевающейся длинной гривой, она сутками носилась по плацу, заражая своей энергией все живое, попадавшееся ей на пути.
Чувствуя иногда острые приступы тошноты, она приписывала их несвоевременному приему пищи, некоторые внезапно появлявшиеся боли в области живота отнесены были на счет постоянного пребывания в седле. Был, однако, и еще симптом, объяснить который генерал-квартирмейстер уже не могла — ее осиная на протяжении десятилетий талия более таковою не являлась. Генриетта Антоновна отчаянно располнела, ее генеральские брюки постоянно расшивались широкими суконными клиньями. Это было весьма странно и никак не сочеталось с тем крайне подвижным образом жизни, который она вела в последнее время.
Меж тем, боли в животе становились все более резкими — предчувствуя худшее, генерал-квартирмейстер вынуждена была однажды остаться дома и пригласить доктора Боткина.
Мудрый старик долго мыл желтые ладони.
Генриетта Антоновна лежала на спине, и освобожденный от тугих резинок живот огромным шаром колыхался между ее чуть выпятившимся подбородком и аккуратными круглыми коленями.
Вытерев каждый палец в отдельности, Сергей Петрович извлек из саквояжа несколько длинных заостренных предметов, но употреблять их не стал, а вынул из кармана слуховую трубку и, напевая себе под нос, приложился ухом к раздувшемуся естеству пациентки. В чем-то для себя убедившись, он вновь отправился к раковине.
Пораженная недугом женщина, приподняв голову, следила за каждым его движением. Покончив с вытиранием, знаменитый врач молча ходил по комнате, от дверей к окну и обратно. Его лицо ровным счетом ничего не выражало.
— Что со мною? — простонала баронесса.
Старый профессор подошел, положил сухую прохладную ладонь на ее покрывшийся бисеринами пота прекрасный лоб.
— Вы беременны, сударыня. — Он посмотрел на часы. — Минут через двадцать вы станете мамой… распорядитесь принести чистых полотенец и таз горячей воды.
Генриетта Антоновна порывисто села и тут же, сраженная тянущей болью, бессильно откинулась на подушку.
— Но как же… ведь я девственна… у меня никогда не было любовных отношений с мужчиной… вы же знаете…
Сергей Петрович вставил в глаз стеклышко, попросил пациентку принять удобную ему позу и ловко задействовал два длинных опытных пальца.
— Действительно… в этом вы правы. — Он снова намыливал руки. — Тем не менее, в нашем распоряжении всего пятнадцать минут. — Выйдя за дверь, он что-то объяснил вскрикнувшей горничной и тут же вернулся. — Сейчас все доставят…
— Как… как такое могло со мной случиться?!
Опытный медик, посыпав тальком руки, натягивал эластичные резиновые перчатки.
— Случай представляется мне весьма редким… попробуем все же выявить истину. — Установив Генриетту Антоновну мостиком, он выдернул из под нее тюфячок, оставив лежать на голом брезенте. — Без мужчины, уверяю вас, тут не обошлось… отбросим добрейшего супруга вашего Карла Изосимовича… что же остается? — Он вынул безопасную бритву и развел в ванночке мыльную пену. — Припомните — не было ли у вас не вполне осознанного контакта с партнером по танцу… или в казарме… случайно… молодые офицеры излишне пылки, солдаты — попросту грубы и невоздержанны… какое-нибудь одно, излишне плотное прикосновение…
— Нет! Нет! — Генриетта Антоновна отчаянно замахала руками. — Как вы могли подумать!
— Хорошо. — Профессор намылил низы баронессы и опробовал лезвие. — Внезапно его рука остановилась. — Знаете, я вспомнил отчего-то тот зимний концерт в вашем доме… Помните, вы пригласили странного человека… Скрябина… он играл нечто необыкновенное, проникающее… я наблюдал за вами, и мне показалось…