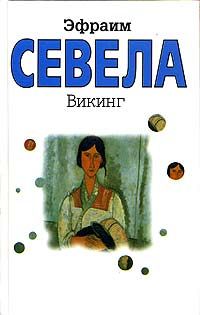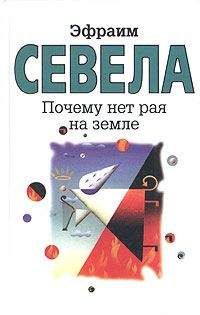Эфроим Севела - Остановите самолёт – я слезу
– Этот идиот – мой муж, когда ехал из России, потащил с собой радиоприёмник «Спидола». В Америку «Спидолу» тащить! Как будто здесь нельзя купить по дешёвке «Соню». Но он там с ней не расставался, слушал «Голос Америки» по-русски и здесь держит возле уха: тот же «Голос Америки» и так же по-русски, потому что английского он не осилит до конца своих дней. Сидит в нашем магазине у кассы и слушает свою «Спидолу», будь она проклята.
Входит покупатель, из чёрных. Мне это уже не понравилось. Хоть мы – советские люди, воспитаны в интернациональном духе и за этих негров голосовали на митингах протеста, чтоб их не унижали и не притесняли. Но здесь, в Бруклине, когда я вижу чёрного, мне становится не по себе.
Этот, извините за выражение, покупатель выбирает себе ботинки за тридцать долларов, а платит в кассу пятнадцать.
– Где остальные? – спрашивает мой, извините за выражение, муж, отрываясь от «Спидолы».
– Тебе, грязный еврей, хватит и этого, – улыбается негр. У них очень белые зубы, ослепительная улыбка, скажу я вам.
Мой муж не согласился. На плохом английском. С ленинградским акцентом.
Негру это тоже не понравилось. Он взял у моего мужа «Спидолу», которую тот пёр из Ленинграда, и этой самой «Спидолой» врезал ему по его же голове. И ушёл. С ботинками. За полцены. А мой идиот наклеил на башку пластырь, встряхнул «Спидолу», не сломалась ли о его череп, и снова стал слушать «Голос Америки».
– Я скажу вам по секрету, – продолжала она, – отсюда надо бежать без оглядки. Америка катится в пропасть. На расовой почве. Я это испытала на собственной шкуре.
Когда мы открыли магазин, первую дневную выручку я не доверила мужу, а повезла сама. В сумочке. Сабвеем. Так у них называется метро, будь оно проклято. После ленинградского – это помойная яма, где нет сквозняка. Мой идиот-муж ещё даёт мне совет: ремешок от сумочки намотай на руку, чтоб не могли вырвать. Если б я его послушала, он бы имел сейчас не жену, а инвалида. Мне бы оторвали вместе с сумочкой и руку. А так негр вырвал только сумочку с выручкой и выбежал на перрон и скрылся, пока я на весь вагон обкладывала его русским матом, забыв, что я не на Лиговке, а в Бруклине, и старым эмигрантам мои выражения могли напомнить далёкое детство при батюшке-царе.
– Я не расист, – заключила она, – но если меня попросят еше раз поднять руку на митинге в защиту этих чёрных паразитов, я лучше оторву себе руку и ещё плюну в лицо тому недоумку, который меня об этом попросит. Прожила жизнь без чёрных и, Бог даст, дотяну свой век без них. Подальше. Короче, надо ехать обратно. Вторая пара. Из Киева. Мирные тихие люди. Надоели им вечно пьяные петлюровцы, нашли тихое местечко в Нью-Йорке.
– Боже мой, – стонет она. – Здесь же вечером не выйдешь на улицу. Страх! Все прячутся, запираются, железными ломиками двери закладывают. Каждый дом как в осаде. На улице – пусто. Только автомобили – шмыг, шмыг. Никто на, тротуар носу не высунет, будто боятся, что откусят.
А по телевизору каждый вечер – одни трупы. Того зарезали, этого задушили, а старушку ещё изнасиловали впридачу.
Мы в Киеве не ложились спать, не погуляв часок перед сном на свежем воздухе. Какой в Киеве возду-х! А? Компот! Фруктовый сок! Не то, что эта мерзость. У моего мужа – давление. Ему нельзя без прогулок. Может умереть. Но и прогулка в этом городе кончается тем же.
Что же мы выбрали? Умирать, так с музыкой!
Каждый вечер мы, два малохольных, гуляем по совершенно безлюдной улице. Мой муж на всякий случай наматывает на руку велосипедную цепь, а я держу на всякий случай большой кухонный нож в рукаве. Так и гуляем, хватаем свежий воздух. Ещё несколько таких прогулок – и отдадим концы, как говорили у нас на Подоле киевские хулиганы. Боже мой, если бы я одного из них встретила сейчас, я б его задушила в своих объятиях. Потому что он – кудрявый ангел по сравнению с этой кодлой.
Хотите ещё? Этот пример, самый точный. Вы сейчас убедитесь. Речь пойдёт о таком малом, которому сам Бог велел бежать из Союза без оглядки и для которого Америка – как речка для щуки. Делец, каких свет не видал. Пробу негде ставить. Ворочал миллионами. Купался в деньгах. Дважды сидел. Не уехал бы – сгноили в Сибири. Он хочет вернуться обратно. Не может здесь жить. Не потому, что с голоду умирает. Он уехал, как говорят блатные, хорошо упакованным: иконки, камушки (так у них бриллианты называются), ещё кое-что вывез.
Ему здесь морально тяжело. Я не шучу. Это не из анекдота.
– Понимаешь, – жаловался он мне. – Они не люди.
Для них деньги – всё, свет застили. У них нет понятия друг, кореш, товарищ. Не знают, с чем это едят. У них весь мир делится на компаньонов и конкурентов. И даже если ты его компаньон, то не развешивай уши, затыкай все отверстия, чтоб не употребили. Я ведь тоже не пальцем деланный, и когда надо – могу взять за глотку. И шкуру спущу – не пожалею. Но это если соперника. А если мы с тобой заодно, стоим локоть к локтю, одно дело затеяли, можешь на меня полагаться как на брата. Надёжен как скала. Так у нас в России принято. И на этом мы горим тут. На нашем доверии. Потому что если никому не доверять и сидеть на деньгах и дрожать, что отымут, так на хрена мне вообще эти деньги сдались и жизнь такая? Да подавитесь вы ими!
Меня тут пригрел один. Еврей. В Бога верит, ермолку с головы не снимает. Взял к себе в дело компаньоном. Я вложил всё, что имел. Доверился человеку. Домой меня приглашал. ужины выставлял. Пил со мной и целовал как брата. Очень он русских евреев жалел. И наставлял. Не доверять никому, держать ухо востро.
А сам сзади нож приставил к лопаткам. Обчистил, гад, до копейки, пустил голеньким. Пока я ему, как корешу, пузыри пускал. Я его убить хотел. А он не понимает. Бизнес, говорит. Не надо зевать. Да причём тут зевать? Я ж, говорю, гад, с тобой пил. Вроде приятелей стали. Я ж тебе доверял. Компаньоны мы, а не конкуренты. Нет, отвечает, в этом мире компаньонов. Все – конкуренты. Даже родная жена – не компаньон, свои деньги хранит отдельно.
Поеду домой. Возьмут – отсижу свой срок. Но зато хоть надышусь вволю. Здесь мне воздуху не хватает. Понимаешь? Человечинки не достаёт.
А теперь я добавлю. От себя. Колю Мухина, моего соседа по Москве, помните? Так Коля напьётся свинья-свиньёй, лыка не вяжет, на карачках домой добирается.
Кого ни встретит, обязательно спросит:
– Ты меня уважаешь?
Коле Мухину даже в этом состоянии нет покоя: вдруг да кто-нибудь его не уважает.
В Америке пьяных не меньше. А вот колин вопрос никто не задаёт. А на хрена? Уважение – это не деньги. Плюй мне в харю, мочись на темячко, только плати, как следует.
Вот этого наш человек из России никак не понимает. И никогда не поймёт. Оттого ему вдруг так тошно становится в этой богатой Америке, что впору выть на луну.
Если увидишь её за небоскрёбами.
Над государственной границей СССР. Высота – 3000 метров.
Я бы очень хотел, чтобы вы мне задали один вопрос. Спросите меня, пожалуйста: как Вы, господин Рубинчик, или товарищ Рубинчик, это уж что вам больше нравится, отличаете человека от зверя? И я вам отвечу без всяких выкрутасов, коротко и ясно: по отношению этого сушества к своим родителям, то есть к тем, кто произвёл его на свет божий. По этому признаку я вам сразу скажу – человек это или зверь.
Больше того, по этому признаку я вам определю с точностью аптекарских весов, чего стоит та или иная нация, та или иная страна. И не буду вам пудрить мозги всякой статистикой, загрязнением окружающей среды, количеством автомобилей и телевизоров на душу населения. Скажите мне, как вы относитесь к своей престарелой маме, и я скажу вам, кто вы – животное, скотина или человек.
Итальянцы – люди. Там матери – почёт и уважение. O, mamma mia! Так, кажется, поют в Неаполе. Грузины у нас на Кавказе – ещё больше люди. У них мама – Бог. Ну, уж о евреях нечего и говорить. Они в этом смысле – сверхчеловеки. Потому что в настоящей еврейской семье мама – Бог, царь и воинский начальник.
«Мама, нет на свете тебя милей!» – как поётся в известной советской песне, авторы которой, – и композитор, и поэт – евреи, почему и песню эту можно по праву считать еврейской.
Но так может петь только русский еврей в Советском Союзе. Американский еврей так петь не может. Потому что в его сердце уже давно нет этого чувства к своей матери. Американский еврей отличается от русского, как молочный порошок от парного молока. Всё, казалось бы, то же, да не то... Чувства нет. Один рассудок остался. Что полезно, а что бесполезно. Что выгодно, а что невыгодно.
Старенькая мама – это бесполезно, это никому не, нужно. Так туда её, старую, подальше с глаз, в дом престарелых.
В оправдание американских евреев я могу сказать только одно: это не еврейское качество, а американское. Еврей ты или не еврей, но если родился под звезднополосатым флагом – отношение к родителям одинаковое: с глаз долой, из сердца – вон.
Не помню, вычитал я это в книге или видел в научно-популярном кино. у каких-то диких не цивилизованных племён был такой обычай: своих стариков, когда те становились немощными, племя, снимаясь со стоянки, чтоб кочевать дальше, оставляло на произвол судьбы, и их в конечном итоге пожирали хищные звери. У других племён этот вопрос решался ещё проще – своих стариков они сами съедали, таким образом убивая сразу двух зайцев: и продовольственную проблему решали, и любимых родителей на склоне лет избавляли от одиночества и старческих недугов, давая им завершить свой жизненный путь в узком семейном кругу на крепких зубах благодарных потомков.