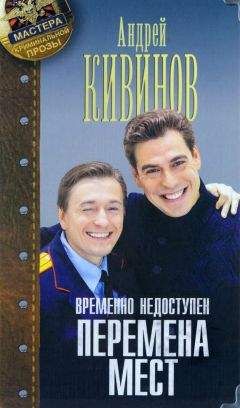Андрей Кивинов - Перемена мест
Надпись на дисплее радовала романтической перспективой. «Настя Великозельская».
— Привет!
— Антон, это Анастасия. Привет. Удобно говорить? — Голос звучал довольно сухо. Не было в нем нежности и теплоты. Словно не их позавчера вместе мутузили по полу.
— Вполне, — не меняя позы, слукавил раненый.
— Антон, ты не будешь против, если я дам твой номер Диме?
Золотов насторожился. Не хватало, чтобы этот ее провинциальный ухажер в погонах принялся звонить и отношения выяснять. Дубинкой перед носом собрался трясти, олень ревнивый?
— Это еще зачем?
— Ему нужны свидетели драки.
А явка с повинной ему не нужна? Показания под протокол в непростом положении Вячеслава Андреевича — это еще хуже, чем несмазанная мылом петля.
— Ну, Насть… А нельзя без протоколов? — вяло спросил он, переворачиваясь в кровати на бок. Ортопедический матрас бережно прогнулся под уважаемыми московскими костями.
— А как? Дима же по закону хочет.
По закону все хотят, но не все могут.
— Хорошо, — нехотя согласился Золотов. Отказ в таком деле выглядел бы подозрительно. — Только я сейчас в разъездах, через три дня буду. У меня кроме Великозельска еще пара городов.
Не рассказывать же красивой девушке, как его подстрелили на охоте! В самое престижное место. Да еще не в охотничий сезон и без лицензии. А Настя еще и раскопает что-нибудь да в сеть выложит — с нее станется. Она же в несистемной оппозиции.
— Спасибо! Приедешь, набери, расскажешь, где был. Пока.
Золотов положил трубку и задумался над щекотливым положением. Три дня в запасе у него есть, а потом? Под протоколом кто подпись ставить будет — Золотов или Плетнев? И врать Насте не хотелось. Но придется.
Раздумья вельможного пациента прервала медсестра, поставившая на прикроватную тумбочку поднос с чаем и сдобным печеньем.
— Ваш чай, Антон Романович!
— Маша, тут есть поблизости красивые города? Что-нибудь с историей?
— А как же! Конечно! С историей полно, а ближайшие красивые — Москва и Петербург…
* * *Плетнев после прогулки с женой пребывал в растрепанных чувствах. У названой супруги подробностей собственной карьеры выяснить не удалось.
— Эта патлатая сказала, что я вроде — театральный режиссер, — поделился он с соседом по палате. — В каком-то коммерческом театре. Пьесу ставлю на спонсорские деньги.
— Ну всяко лучше, чем ассенизатор… Но все равно мутная какая-то разводка.
Константин приподнялся в кровати, развернулся лицом к Плетневу, долго и подозрительно того разглядывал, словно снятого с тела клеща. Энцефалитный или нет?
— Слушай-ка, приятель… А не паришь ли ты тут всем мозги? Может, ты и правда режиссер? Получил бабки на постановку, прогулял, а теперь гасишься? Не, я не в претензии, сам бы на твоем месте помалкивал. Только я тебе как на духу, а ты…
— Да ни от кого я не прячусь! — возмутился Плетнев. — Реально не помню!
— Она фамилию твою назвала?
— Иванов, кажется… А что?
— Там, в вертухайской, комп стоит. Наверняка с интернетом. Ночью можно пошарить. Вот и проверим тогда, кто кому гонит…
— А интернет это что? — деловито уточнил Плетнев, не став спрашивать про «вертухайскую».
— Интернет — это сейчас вся и все.
Плетневу идея понравилась. Кто знает, вдруг сосед прав? Осталось лишь дождаться отбоя.
— Не кисни, Юрок! А хочешь, со знакомым тебя сведу? Он в уголовке работает, опером. У него все всё вспоминают. Безо всяких лекарств. И главное — никаких следов на теле. Мастер!
Антон Романович юмора не понял, но что-то в интонации собеседника заставило поежиться. Прочитав правильную реакцию в глазах Плетнева, сосед громко заржал над собственной шуткой и успокоил:
— Шучу. Некоторые после этого уже ничего вспомнить не могут.
Словно князь Болконский под небом Аустерлица, Плетнев пялился в покоцанный больничный потолок и рассуждал о вечном. Как плохо вдруг оказаться беспамятным. И почему людям так часто хочется забыть происходящее с ними? Это же настоящее мучение — жизнь, когда у тебя полностью отсутствует всякое прошлое. Ты даже точно не знаешь, какой ты человек, хороший или плохой? Что больше любишь — селедку или клубнику? Чем в жизни занимаешься? Маньяк или святой? Или нечто среднее. Особенно неприятно то, что приходится полагаться на других и им верить. А вдруг эти другие пользуются твоим состоянием и специально врут?
Дверь в палату распахнулась, и внутрь ввалилась парочка с цветами и пакетами. Мужчина и женщина. Ровесники. Лет по тридцать. Категорические незнакомцы. Оба с напудренными лицами.
Мужчина всплеснул руками с пакетами и радостно заорал от двери, глядя на Плетнева:
— О-о-о! Юрка! Привет! Привет, родной!
Он небрежно кинул пакеты на стул и бросился с чувством обниматься — как будто забивший мяч футболист с командой. От мужика сильно пахло вчерашним перегаром в сочетании со свежей мятой. Не иначе за дверью сунул в рот какой-нибудь «Орбит». Плюс пудра. В сумме с резким винтажным парфюмом смесь ароматов способна была свалить с ног испанского быка, а не то что нездорового интеллигента.
Винтажный бесцеремонно теребил ошарашенного Плетнева и вопил на всю палату. Требовал немедленного ответа: как же Юрку угораздило так вляпаться? Как он мог всех оставить на произвол, так сказать, судьбы и бухгалтерии?
— А… А вы кто? — Плетнев осторожно высвободился из объятий. Его очень волновал вопрос — кто такие эти все? И слово «бухгалтерия» прозрачно намекало на некий материальный долг. Может, он специально их всех оставил?
— Юрка, брось придуриваться! Труппа мы твоя! Труп-па!
— Какой труп? Где?
— Кончай прикалываться! — Винтажный снова приблизился вплотную и счастливо завопил Плетневу в ухо, разя наповал перегаром с мятой: — Твоя родная труппа! Малый фольк театр оф Гоголь!
Плетнев выставил вперед руки, словно для защиты от ядерного гриба. Подскочил на кровати, свесив босые ноги. Никак не мог уразуметь: какого-то Гоголя труп… Или это он — Гоголь? А Гоголь — это имя или кличка? Если кличка, то, выходит, прав сосед по палате — сидел он. Интересно, за что?
Молчавшая до сих пор спутница шумного мужика подошла и сильно дернула коллегу за рукав:
— Гена, погоди. Лера не шутила насчет амнезии. Ты осторожно. Юра, у тебя голова болит? — заботливо спросила она и протянула руку к плетневской голове.
Плетнев рефлекторно отшатнулся. Ему совершенно не хотелось, чтобы незнакомые, безвкусно размалеванные старлетки хватали его за ушибленную голову.
— Да ладно! Здоровый же, как конь! — с сомнением оглядел больного тот, кого назвали Геном. Или Геной…
Сосед Константин наблюдал за Плетневым с явным подозрением. Словно белогвардеец за крестьянином в красных лаптях и с красной бородой.
— Юрка, ты закосить решил? — наклонившись поближе, шепотом повторил Гена-Ген версию соседа по палате. — Из-за инвесторов, что ли?
— Каких инвесторов? — Совершенно ошалевший Плетнев в ответ тоже зашептал: — Инвестор — это что?
— Тех самых, Юра, тех самых. Не, брат, я понимаю — люди они непростые. Я бы и сам не знаю, что на твоем месте делал. Может, в бега бы подался. Но, знаешь, косить — не выход. Все равно ведь достанут. Не тебя, так Лерку. Кто ж добром такие бабки простит?
Плетнев не понял ничего, но упомянутой задницей почувствовал, что ситуация нездоровая. И чревата дополнительными капельницами и уколами. И ему, и, не дай бог, Лере.
Гена принялся делиться новостями из театральной жизни, но с таким же успехом их можно было рассказывать пингвину. Старлетка, представившаяся Светой, достала из пакетов и разложила на тумбочке больничный набор — упаковку сока, яблоки, бананы, кефир, пачку печенья и стопку газет. Один банан съела сама, закусив его яблоком, словно доказывая, что ничего не отравлено. Подкрепившись, принялась незаметно оттаптывать коллеге ногу — мол, пора уходить.
— Давай, Юра, поскорее выздоравливай. Без тебя все встало, — Гена, поднявшись, пожал Плетневу руку, попрощался с соседом и вышел из палаты.
Света, казалось, только этого и ждала. Едва за ним закрылась дверь, она наклонилась к Плетневу максимально низко, словно для того, чтобы Плетнев смог разглядеть цвет ее бюстгальтера.
— Юра, я все понимаю, — зашептала она, — но ты уж как-то вспомни, что я на третьем месяце, и что-то надо решать. Денег у меня нет. Ты ведь придумаешь что-нибудь, да?
Очередная загадка. Что такое «третий месяц»? И что надо решать? Вызывающе покачивая бедрами, она покинула палату.
— Старик, а ты, оказывается, по части баб рецидивист! Одно слово, богема! — заметил восхищенный сосед. — Но, по-моему, ты все-таки косишь. Да ладно, я бы тоже в несознанку шел, если бы детями к стенке приперли. Мой совет — денег ей не давай ни в коем случае. Еще доказать надо, что она от тебя залетела.