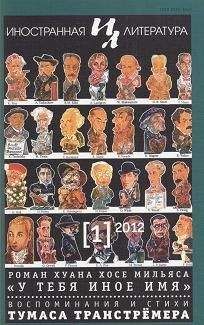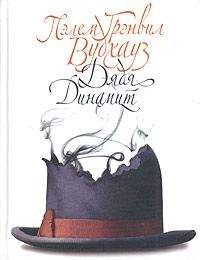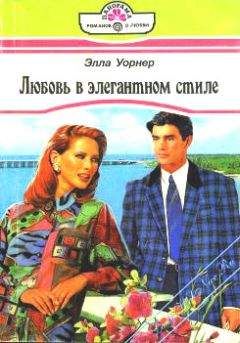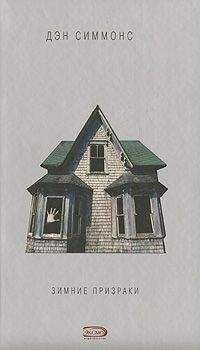Уорнер Лоу - Шутник
Моэму я ответил, что о Гогене слыхом не слыхал. Наконец мы подъехали к дому Анани, он тонул в глухом кустарнике. Мы вошли в дом и встретились с хозяином — старым, беззубым плосконосым таитянином. Они с Моэмом беседовали на французском, я на Таити немного выучился. Моэм приехал купить дверь. Оказывается, Гоген как-то заболел в доме Анани, и ему не на чем было рисовать.
(Примечание. Совершенно верно. Поправившись, Го ген, у которого не было холста, стал рисовать на стеклянных панелях дверей главной комнаты Анани. Тот, по таитянским меркам, был человек современный.)
Он и намалевал свои непристойные картины на стеклянных дверях. На трех. На двух почти всю краску сцарапали дети. Но третья прилично сохранилась. Моэм приобрел ее за 200 франков. Тогда это равнялось четырем фунтам или двадцати долларам.
Моэм спросил, не найдется ли у меня в машине инструмента снять дверь с петель. Я приступил к работе.
— Осторожнее! Осторожнее! — без устали причитал Моэм, пока я отвинчивал петли.
— Уж куда осторожнее.— Я вывинтил последний шуруп, но петли пристыли. Когда я ее наконец отодрал, дверь выскользнула у меня из рук, но Хэкстону удалось подхватить ее на лету.
— Руки у тебя глиняные, болван! — закричал Моэм. Опять этот его обычный приступ бешенства!
— Ничего же не разбилось, мистер Моэм.
Продвигаясь черепашьим шагом, мы доставили дверь к машине. Ее можно было бы уместить на переднем сиденье, но она была слишком высока, в дверцу не пролезала. Шесть пластин раскрашенного стекла — мерзкая картина обнаженной женщины, держащей плод хлебного дерева,— составляли две трети двери. Нижняя треть была деревянной.
— Нельзя ли где-нибудь раздобыть пилу? — спросил Моэм.
— Тогда мы отпилили бы низ! — Хэкстон гордо просиял, как будто он только что изобрел двигатель внутреннего сгорания или поведал нам какую-нибудь великую истину.
Я знал одного туземного вождя, который жил в четверти мили отсюда, у него имелась пила. И мы — опять втроем — полезли через кустарник, неся двухсотфранковую дверь. Можно было подумать, что это не иначе как «Мона Лиза»! Наконец мы доковыляли, я одолжил пилу и стал пилить деревянную часть, а Моэм с Хэкстоном кудахтали под руку: «Осторожнее! Осторожнее!», как будто я ампутировал ногу и пациент истекал кровью.
Когда я закончил, Моэм и Хэкстон поволокли дверь к машине. Они забрались на заднее сиденье и положили дверь на колени. Мы тронулись, оба умоляли меня ехать осторожнее, я и старался как мог, да ведь на пыльной дороге было полно выбоин, торчали ветки, валялись камни. Я слышал разговор этих двоих.
Моэм. Представляешь, Джералд, какое сокровище мы раскопали!
Хэкстон. Уникальное! Гоген на стекле! Это ж целое состояние!
Моэм. Вставлю вместо окна на северную сторону моего кабинета.
Хэкстон. Вот здорово! У меня даже голова кружится.
Понемножку меня одолела жажда, и я тормознул у деревенской забегаловки, объяснив, что желаю пропустить глоточек коньяка. Оба убеждали меня потерпеть: сначала надо доставить дверь в целости и сохранности в Папеэте. Сказав, что именно они могут делать с дверью, я взял ключи зажигания и пошел себе в забегаловку.
(Примечание. Собственный рассказ Моэма о том, как они нашли дверь у Анани, подтверждает все, только он не упомянул, кто их к Анани возил.)
Полчаса спустя, отведав коньячку, встряхнувшись и повеселев, я вернулся к машине, эти двое так и сидели, вцепившись в свою драгоценную дверь. Уже смеркалось, и, не заметив камня на дороге, я споткнулся и упал. Шел дождь, и я плюхнулся в грязь, да еще лицом. Настроение у меня соответственно опять упало.
— Боже! — услышал я голос Моэма.— Парень нализался в лоскуты!
Вот врет-то! Я подошел к машине и отпер дверцу.
— Я все слышал! — негодующе сказал я.— И заявляю, что я трезвее башмака! — и сел за руль.
— Очень вас прошу,— предостерег Моэм,— поезжайте помедленнее!
Меня уже тошнило от этих снобов и их надменного обхождения. Крутя баранку, я принялся распевать «Все свои беды засуньте в рюкзак!». Ехали мы ровно, со скоростью 35 миль в час. Уже почти стемнело, фар у меня не было, но дорогу я знал. «И улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь!» Мы стукнулись о валун, который не иначе как только что подложили сюда, и машина чуть не кувыркнулась.
— Да помедленнее же, черт тебя возьми! — тревожно вскрикнул Моэм.
Как я уже говорил, я не позволяю себя оскорблять. Я прибавил скорость до 40 миль. Чем пуще они меня кляли, тем шустрее я гнал машину. Мы пересчитывали выбоины, прыгали через коряги, разок я даже мазнул крылом по дереву. «Не печалься и не горюй!— плевать я хотел на их дверь.— И улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь!» — заливался я.
Когда мы добрались до Папеэте, я малость поостыл и бережно притормозил перед гостиницей. Обойдя машину, я открыл дверцу для Моэма. Вид у него был самый плачевный: бледный и дрожит. У Хэкстона не лучше. Где уж им донести стеклянную дверь! Я и взял ее у Моэма. Помочь.
— Нет! Не притрагивайтесь!! — но я уже взбирался на крыльцо.
(Примечание: Не надо! Нет!!!)
Я знать не знал, что в гостинице недавно заменили сгнившие ступеньки новыми. И вместо четырех ступенек стало пять. Поэтому — моя ли это вина? — я споткнулся о верхнюю и упал ничком на дверь. Конечно, проклятая разлетелась вдребезги. Но что самое печальное — осколками мне порезало лицо и руки. В кровь. Я приподнял голову: Моэм и Хэкстон сверлили меня глазами.
Моэм тяжело дышал.
— Ты — болван! — прошипел он. — Идиот! Безмозглый пьянчуга! Не соображаешь даже, что натворил! — и, впадая в свой обычный припадок бешенства, пнул меня в крестец.— Будь ты проклят! Будь ты проклят, черт тебя подери!
Никому не позволено ругать меня и пинать, да к тому же когда я валяюсь в луже собственной крови! Вот вам и благодарность за то, что я рвался услужить! И я решил отплатить Моэму, преподать урок, чтобы в жизнь не позабыл!
Наслышавшись, что Гоген частенько сидел на мели и ему приходилось малевать свои непристойные картины на джутовых мешках из-под картошки, я насобирал таких мешков, сколотил деревянные подрамники, совсем как те, что стояли в бойлерной, туго натянул на них мешковину и крепко приколотил ржавыми гвоздями. Всего у меня получилось пять полотен.
Особо я не спешил, так как его высочеству Моэму все равно никуда не деться с Таити, пока не прибудет пароход. Я взял полотна, свернул их, привязал к ним груз и благоуханной ночью утопил в лагуне, прикрепив веревкой к бую.
Потом взял картины Гогена — все пять — из бойлерной и внимательно изучил при солнечном свете, расстелив на берегу у травяной хижины, где жил. У ящика с углем они простояли никак не меньше, чем с 1903 года, когда умер Гоген. Осторожно смахнув пыль, я протер полотна губкой, намоченной в холодной воде. И они засверкали, будто написанные вчера. На Таити влажно и везде плесень, но картины стояли в сухом месте, не на свету и сохранились превосходно.
Здесь надо упомянуть, что в школе — в Йоркшире — я выказывал недюжинные способности к рисованию. Мать определила меня к местному художнику, и тот давал мне уроки рисования, пока печальное происшествие не покончило с нашими занятиями и с домом художника. Но разве меня кто-нибудь предупреждал, что скипидар — горючий?
Итак, с основами живописи я был знаком и нашел, что полотна Гогена написаны неумело и вдобавок безобразно. Прежде всего, он не умел рисовать. Писал плоско, ни перспективы, ни деталей. А палитра? Нелепость на нелепости! Апельсины у него синие, кокосовые орехи оранжевые, а лошади зеленые! Вдобавок, на всех пяти картинах Гогена — обнаженные женщины! И все-таки я решил скопировать их. Я отправился в магазинчик, единственный, где продавались краски, кисти и прочее, купил несколько тюбиков масляной краски, кисти и палитру.
И приступил к делу. Сначала копировал на бумагу, потом на картон и дощечки. Десять дней неустанных трудов, и я приноровился к гогеновской манере и решил, что готов. Темной ночью я отправился к бую и извлек пять холстов. Сселись они прекрасно. Утром я промыл их в пресной воде и разложил сушиться на солнышке. Через два дня нанес клеевую смесь, чтобы краска не впитывалась.
Тут встала проблема — состарить холсты. Совета попросить не у кого, пришлось импровизировать самому. Втер в мешковину песок, сбрызнул холодным кофе, потом пивом, протер пеплом и все смыл. После всех процедур мешки выглядели точно так, как мне хотелось.
Старательно копируя с оригиналов, я принялся за рисование. Оказалось, это совсем не так легко, как мне воображалось. Но, наконец, через две недели получилось пять полуподлинных Гогенов. Настоящего знатока живописи они бы не обманули, но одурачить жадину, как вы увидите, удалось.
Краски еще пахли, и я опять опустил полотна в лагуну, дал им помокнуть пару деньков. А вытянув, положил на солнце «лицом» вверх, и еще на денек «лицом» вниз. Потом припудрил старым молотым кофе, а потом стер грубой тряпицей. Протер жиром и насухо вытер. И только тогда отнес в бойлерную, где припорошил угольной пылью и ждал еще неделю.