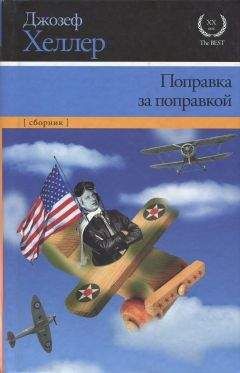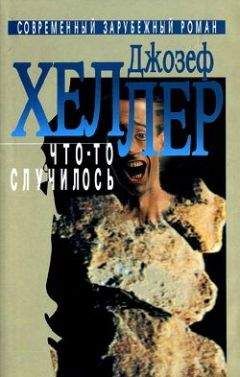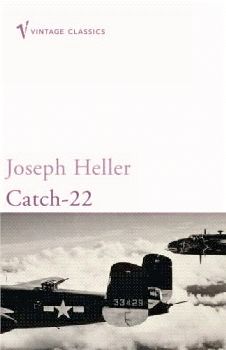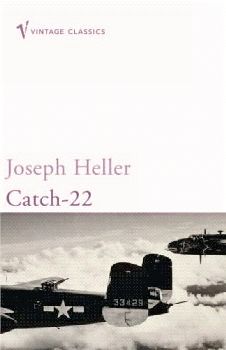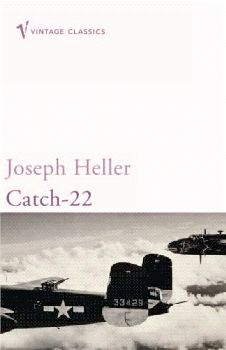Джозеф Хеллер - Поправка-22
— Будьте осторожны в других палатах, святой отец, — предостерег его Йоссариан. — Это психические палаты. Там полно психов.
— Меня не обязательно называть «отец». Я анабаптист.
— Будьте осторожны, — мрачно повторил Йоссариан. — И не надейтесь на помощь военной полиции — там служат бесноватые маньяки. Я бы проводил вас, да сам боюсь их всех до смерти. Безумие заразительно. Наша палата единственное место, где собраны нормальные люди. Единственное место в госпитале, а может, и на всей земле.
Капеллан поспешно встал и бочком, бочком отступил от койки Йоссариана. Потом смущенно улыбнулся и пообещал вести себя с должной осторожностью.
— А теперь мне надо к лейтенанту Дэнбару, — заключил он. Однако не сдвинулся с места, и вид у него был немного виноватый. — Как он, по-вашему? Ничего?
— Нормальный парень, — заверил его Йоссариан. — Уникальный тип. И что самое замечательное — никакой самоотверженности.
— Да нет, я не об этом, — снова перейдя на шепот, заторопился капеллан. — Он очень болен?
— Да нет, не очень. Он и вообще-то не болен.
— А вот это хорошо. — Капеллан облегченно вздохнул.
— Да, — вздохнул и Йоссариан, — это хорошо.
— Капеллан! — воскликнул Дэнбар, когда тот поговорил с ним и ушел. — Представляешь себе? Капеллан!
— А какова обходительность? — вопросительно утвердил Йоссариан. — Ему, пожалуй, должны дать не меньше трех голосов.
— Кто это ему должен? — подозрительно спросил Дэнбар.
В дальнем углу их палаты, за зеленой фанерной ширмой, трудился в поте лица своего на госпитальной койке представительный полковник лет сорока пяти, и его каждый день навещала миловидная молодая женщина со слегка волнистыми светло-пепельными волосами — не сестра милосердия, не дамочка из Красного Креста и не девица из Женского вспомогательного батальона, она тем не менее ежедневно приходила в госпиталь на Пьяносе, — грациозная молодая женщина в изящных платьях пастельных тонов, нейлоновых чулках с идеально прямыми швами и белых лодочках на невысоких каблучках. До болезни полковник был связистом, но, и заболев, трудился буквально с утра до вечера: получив очередной липкий рапорт о своем внутреннем состоянии, он методично запечатывал его в квадратный марлевый пакет и переправлял на низенький столик у койки, в белое ведерко с крышкой. Полковник этот поражал воображение. У него было темное, словно бы из тусклого серебра, лицо, провалившийся рот, впалые щеки и глубоко ввалившиеся, тоскливые, с мутной поволокой глаза. Он все время откашливался — негромко, сдержанно — и мешкотно, с привычным отвращением прижимал квадратики марли к бесцветным губам.
А вокруг волновалось море специалистов, которые специализировались на его недугах, пытаясь определить, в чем же с ним дело. Чтобы увидеть, как он видит, они высвечивали ему слепящими лучами глаза; чтобы почувствовать, как он чувствует, вгоняли в нервы иголки; а чтобы ощутить его ощущения — на латыни рефлексы, — лупили молотками по локтям и коленям. Психиатр исследовал у полковника психику, психолог — психологию, невропатолог — нервы, лимфатолог — лимфу, кистолог — кисту, а китолог — педантичный лысеющий доктор из Гарвардского университета, которого загребли на военную службу, потому что у компьютера в призывной комиссии сгорело сопротивление, и доктор биологии стал врачом, — пытался обсуждать с ним, хотя он едва дышал, художественность «Моби Дика».
Словом, обследовали полковника дотошно и всесторонне. У него не было органа, который укрылся бы от внимания врачей. Их все до единого высветили и выследили, прослушали и прощупали, продезинфицировали и унифицировали, проанализировали и заанестезировали, вскрыли, удалили, умалили и пересадили. Хрупкая, опрятная и стройная, словно тростинка, женщина, сидя рядом с ним на стуле, часто дотрагивалась узкой ладонью до его плеча, а улыбка ее лучилась воплощением царственной печали. Сам он был высокий, худой и сутулый, а встав, сгибался почти пополам и двигался вперед будто высохший вопросительный знак, медленно, дюйм за дюймом передвигая по полу подошвы почти не гнущихся в коленях ног. Под глазами у него темнели фиолетовые мешки. Посетительница разговаривала с ним очень тихо — даже тише, чем он откашливался, — и никто в палате не знал, какой у нее голос.
Да и опустела вскоре палата, потому что их всех разогнал техасец. Первым сломался артиллерист, положив начало массовому исходу. Дэнбар, Йоссариан и летчик-истребитель выписались одновременно. Дэнбара перестали мучить головокружения, Йоссариан окончательно понял, что печень у него совсем не болит, а летчик-истребитель вдруг напрочь избавился от насморка. Исцеление было всеобщим и безболезненным. Сбежал даже невозмутимый младший лейтенант. Меньше чем за десять дней техасец вернул их всех на боевые посты, к исполнению долга, — всех, кроме обэпэшника, который заразился от летчика-истребителя простудой и подхватил воспаление легких.
Глава вторая
КЛЕВИНДЖЕР
И все же обэпэшнику крупно повезло — ведь за пределами госпиталя продолжалась война. Люди обезумели и получали за это медали. По обе стороны линии фронта, рассекавшей мир, молодые парни шли на смерть — за родину, как им говорили, — и всем, похоже, казалось, что так и надо, особенно молодым парням, которые шли на смерть, не успев пожить. И не было, не предвиделось этому конца. Йоссариан-то, впрочем, предвидел конец — свой собственный; он мог бы отлеживаться в госпитале до второго пришествия, не явись туда техасец с его патриотизмом, взъерошенной башкой, почти упирающейся в пол челюстью и вечной, растянувшейся от уха до уха улыбкой. Ему хотелось осчастливить всех соседей по палате. Кроме Йоссариана с Дэнбаром. Больной, он и есть больной.
А впрочем, Йоссариан и сам не видел причин для счастья, так что техасец был тут ни при чем, он видел войну — и ничего веселого в этом не видел. За пределами госпиталя продолжалась война, но никто ее, казалось, не замечал. Только Йоссариан с Дэнбаром. А когда Йоссариан пытался открыть людям глаза, когда он хотел образумить их, они шарахались от него и называли безумцем. Даже Клевинджер, который мог бы кое-что понять, но не понимал, сказал ему перед его отправкой в госпиталь, что он безумец, псих.
— Ты псих! — заорал Клевинджер, с лютым ожесточением глядя на Йоссариана и вцепившись обеими руками в столешницу.
— Клевинджер, ну чего ты пристаешь к людям? — устало спросил его Дэнбар, перекрыв на мгновение невнятный гомон офицерского клуба.
— Псих, — упрямо повторил Клевинджер.
— Они стараются меня убить, — рассудительно сказал Йоссариан.
— Да почему именно тебя? — выкрикнул Клевинджер.
— А почему они в меня стреляют?
— На войне во всех стреляют. Всех стараются убить.
— А мне, думаешь, от этого легче?
Клевинджер уже дернулся, полупривскочил со стула — глаза мокрые, губы выцвели и трясутся. Как и обычно, когда начинался спор о святых для него принципах, он был обречен закончить его, яростно задыхаясь от негодования и смаргивая горькие слезы неразделенной веры. Клевинджера переполняла вера в святые принципы. Он был псих.
— Да кто «они»-то? — удалось все же выкрикнуть ему сквозь гневную одышку. — Кто, по-твоему, старается тебя прикончить?
— Каждый из них.
— Из кого «из них»?
— А как ты думаешь?
— Понятия не имею!
— А раз понятия не имеешь, так откуда ж ты знаешь, что они не стараются?
— Да ведь они… ведь я… — брызгая слюной, закудахтал было Клевинджер и безнадежно умолк.
Клевинджер искренне считал, что он прав, но Йоссариан опирался на неоспоримые доводы, поскольку совершенно незнакомые ему люди обстреливали его из зениток, стараясь прикончить, когда он сбрасывал на них бомбы, и в этом не было ничего веселого. Да и все остальное было не веселей. Ну можно ли веселиться, если живешь, будто бродяга, на диком острове, прижатый нагло раскорячившимися горами к безмятежно голубому морю, которое, однако, проглотит тебя при случае, так что ты и глазом не успеешь моргнуть, а потом выплюнет через пару дней на берег — распухшего, лилового, осклизлого и свободного от житейских невзгод, со струйкой воды из каждой холодной ноздри?
К палатке, в которой он жил, почти вплотную подступали заросли тусклого мелколесья, отделявшего их эскадрилью от эскадрильи Дэнбара, а вдоль стены деревьев тянулась траншея заброшенной железной дороги с временным бензопроводом, из которого заправлялись на взлетном поле бензовозы. Благодаря Орру, его соседу по палатке, их жилище было самым роскошным в эскадрилье. Всякий раз, как Йоссариан возвращался после отдыха в госпитале или отпуска в Риме, он обнаруживал новые роскошества — камин, водопровод, бетонный пол, — появившиеся стараниями Орра, пока его не было. Место для палатки выбрал в свое время Йоссариан, а ставили они ее вместе — Орр, улыбчивый рыжий гномик с «крылышками» пилота и кудрявой густой шевелюрой, разделенной на прямой пробор, был главным распорядителем, а высокий, массивный, здоровенный и проворный Йоссариан покорно выполнял его распоряжения. Жили они вдвоем, хотя палатка вместила бы и шестерых. Когда настало лето, Орр поднял, скатав, боковые стенки, чтоб застоявшийся внутри горячий воздух выдувало ветерком с моря, который никогда не дул.