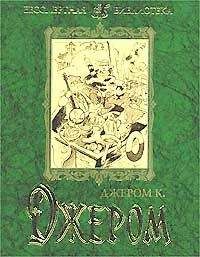Геннадий Емельянов - В огороде баня
«Что делать? Кто поможет?»
Сразу вспомнилась Прасковья Гулькина. «Она все уладит. Должна уладить!».
Учитель размашисто пошагал на гору, через бор, в контору рабкоопа. Он не замечал красоты, не внимал запахам, он не видел белопенных облаков, гонимых ветром вдоль горизонта. В глазах учителя было черно, он несколько раз с маху натыкался на коров, бродивших посреди деревьев, и говорил им: «Извините, товарищи!».
Дверь с табличкой «Заместитель председателя» была заперта, Павел Иванович уныло поворотил назад, не смея ни у кого осведомиться, где найти Прасковью Семеновну (он панически боялся теперь конторских женщин), и смирился с очередной своей неудачей. В коридоре Павел Иванович неожиданно был остановлен девицей, которая сказала, что Гулькина уехала на трехмесячные курсы повышения квалификации в Тюмень и оставила тетрадку, наказав передать ее Зимину. — Вы Зимин, Павел Иванович?
Учитель после некоторого размышления ответил, что да, он и есть Павел Иванович Зимин. Девица сбегала куда-то и через минуту принесла тонкую ученическую тетрадку, сунула ее учителю и растворилась. На дворе, при ясном солнце, Павел Иванович раскрыл тетрадь, заполненную большими и круглыми буквами, похожими на Прасковью. Это были стихи.
Зимин в сердцах смял и бросил тетрадку, однако тут же подобрал ее, сложил пополам и сунул в карман: он уважал чужой труд, особенно же труд творческий. «Погибла для кооперации Прасковья Семеновна Гулькина, коли стихи писать начала. Хотя нет, слишком она трезвая женщина для поэзии, побалуется, да и бросит». Павел Иванович был спокоен за судьбу Прасковьи, больше его волновала судьба собственная, и он опять настроился на минорный лад. «Что делать? Неужели все труды и муки пойдут насмарку?».
Павел Иванович брел, спотыкаясь, под гору, к своей даче, и был похож на пьяного, он весь был в себе, налитый до краев черной печалью.
И вспомнил Павел Иванович такой момент своей биографии. Забавный, в общем-то, момент. Неожиданно было объявлено: «Вы, товарищ Зимин, включены в делегацию просвещенцев от города. Вы, товарищ Зимин, едете в Москву. А железнодорожного билета на вас не куплено, поскольку вы прошли добавочным списком, так что срочно доставайте билет».
Павел Иванович, тогда еще совсем молодой учитель, развил бурную деятельность, добрался через третьестепенных знакомых аж до начальника дороги и косноязыко стал объясняться, кланяясь и прижимая шляпу к животу: так, дескать, и так — Москва, срочно, только вы можете помочь…
Начальник долго не понимал и морщился, как от зубной боли, потом, наконец, разобрался, что к чему, и долго, с удовольствием, смеялся:
— У нас поезда до Москвы пустые идут. В кассе, значит, есть билеты. Всякие.
Павел Иванович совсем растерялся:
— Спасибо… Извините. Ради бога извините.
— Идите, — устало сказал начальник. — Привыкли, понимаешь, с черного хода.
«И вот опять с черного хода я, — подумал Зимин с горькой усмешкой. — Да еще как!.. Как боров Рудольф — с хомутом на вые».
Павел Иванович беспокойно закрутил головой, сердце его екнуло и где-то в самой глубине существа зажглось искоркой, все разгораясь предчувствием великой беды. Зимин сперва прибавил шагу, потом припустил дурной рысцой в направлении своей дачи. Уже возле колонки, метров за сто от дома, он понял, что предчувствие не подвело его. Издали Павел Иванович увидел, что жесть на крыше летней кухни искорежена и смята, будто консервная банка, которую вскрывали пьяной рукой с помощью гвоздя или зубила. Торцовая стена кухни была разбита в прах, доски валялись по всему двору и дымились.
Потом Павел Иванович впал в тупое забвение и, сидя на скамье, наблюдал безучастно, как дед Паклин снимает с проводов лодочным шестом голубые рейтузы жены Сони, как хлопочет Гриша Сотников, заметая следы. Гриша походя наставлял деда Паклина:
— Чуть чего спросят, говори: известку гасили, взорвалась известка, она потому что с карбидом оказалась.
— Все из-за тебя, Гришка! Будь он проклят, твой самовар!
— Рази я виноват, что реле отказало.
— Реле-меле! А вдруг милиция нагрянет?
— Не нагрянет. Никто не заметил, видишь, на улице пусто.
Дед Паклин снял голубые рейтузы с проводов, Гриша Сотников кое-как приколотил стенку летней кухни и пригладил по возможности жесть на крыше.
— Ну, все! — сказал Сотников. — Айда, старик. — И показал подбородком на Павла Ивановича: — Совсем опупел парень, как бы его еще кондрашка не хватила?
— Молодой, выдюжит, поди, — равнодушно отозвался дед.
Потом перед Зиминым остановилась его супруга Соня, в руке она держала чемодан. За спиной Сони пряталась дочь с рюкзаком на плечах.
Соня долго, пристально глядела в лицо мужу и качала головой, как над покойником:
— И до чего же ты докатился, Паша! Как хочешь, а у меня сил больше нет. Мы уходим. Это не отпуск, это — мука.
Дочь украдкой от матери обернулась напоследок, махнула отцу рукой и показала язык: она шутила, она прощала его. Что ж, и на том спасибо.
Павел Иванович остаток дня бесцельно, все той же пьяной походкой, бродил по селу и заглядывал людям в глаза, искал ответа на вопрос: знают они про его позор или еще нет? Он был виноват перед всеми.
Неподалеку от сельсовета учителю Зимину повстречался директор школы Роман Романович. Столкнулись они нос к носу, и директор заблажил от радости:
— Вот ведь как, на ловца и зверь бежит! К тебе все собирался, да завертелся тут, как белка в колесе. Из отпуска отозвали ремонт заканчивать, без меня все остановилось. — Роман Романович привычно крутил на пальце связку ключей. — Не могут без меня и шагу шагнуть. Знаешь, Паша, я ведь в Томск ездил, в архивах рылся. И вот что выяснилось. Их два было!
— Кого?
— Сыча. Два было. Два атамана. Так не наш клад зарыл, а второй, который на Енисее орудовал.
— И что ты думаешь делать?
— На Енисей ехать надо, Паша. Попрошусь, скорее всего, туда работать.
— Куда?
— Ну, в Красноярский край. Да вот жена…
— Она тебя не любит?
Роман Романович ничего не ответил, лишь почесал нос и отвернулся. Дальше он начал излагать план поисков клада в Красноярском крае. Павел Иванович плохо слушал директора, он смотрел вниз. Там, внизу, около продуктового магазина, маячила желтая цистерна на тележке и с надписью: «Керосин». Около бочки мыкалась небольшая очередь, и продавец был в белом фартуке.
Павел Иванович перебил речь директора странным вопросом:
— Найдешь канистру?
— Зачем канистру?
— Керосину подкуплю. У меня керогаз.
У Зимина не было керогаза.
— Пойдем, возьмешь. Я к тебе подбегу вечерком, да? Развеем горе веревочкой, да?
— Заходи…
Пока в школе искали канистру, керосин увезли в другой конец села. Павел Иванович попросил в магазине налить ему пять литров подсолнечного масла…
Первым отблески огня в темноте заметил дед Паклин, он выскочил во двор и сразу догадался, что у соседа, городского учителя, горит сруб. Горит не шибко, но основательно. Дед кинулся на пожар, подумав, что соседи спят, но они не спали: шагах в пяти от сруба сидел по-татарски сам учитель, на нем была нейлоновая белая рубашка с галстуком и при запонках, штанов же на нем не было, одни плавки. Рядом с учителем, распластавшись, подобно трупу, лежал боров. Поверх борова, на боку его, лежал изодранный хомут. К этому моменту Рудольф уже догадался, что рано или поздно люди съедят его, но он блаженствовал. Не он первый, не он последний жертвовал волей ради брюха.
— Принеси-ка хлеба, дед, — не оборачиваясь, приказал учитель.
Дед сбегал домой и принес целую булку. Учитель, не поднимаясь па ноги, двумя руками, свободно, распахнул пасть борова и вложил туда булку, как в пустой сундук. Крышка захлопнулась, и по телу животного, мягкому, будто тесто, от горла до середины туловища пополз комок. Дед Паклин попятился от страха, крестясь, но задержался, повинуясь спокойной команде учителя:
— Посиди у огня. Рудольфа не бойся, он уже три булки вот так заглотил.
Сруб горел ровно и со всех углов.
— Карасином, что ль, облил?
— Самогоном. И постным маслом.
— Зачем самогон-то! Я бы карасину дал.
— Алкоголь — зло социальное, Нил Васильевич, его уничтожать надобно.
— Нет у тебя нахрапистости, Паша: попросить не умеешь, как надо, украсть боишься… — деду было жаль самогонки, и потому разоблачал он с удовольствием. — А не можешь, не берись, деньги бы заплатил, люди бы по-людски исделали. Тьфу на тебя, Паша! И торопишься, когти рвешь. Куды торопишься — неизвестно. Да.
Учитель старика не слушал.
— Весь самогон-то спалил?
— Весь, без остатка.
— Нисколь и не осталось? — Дурак ты, Паша, и есть! — Дед плюнул и отворотился от огня. Потом смягчился и спросил: — Тушить будем?