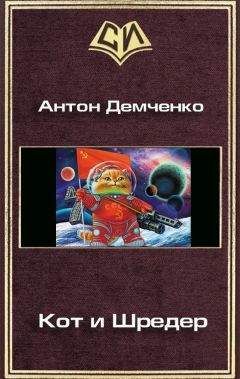Александр Крыласов - Запойное чтиво № 1
Сердце Кондакова неожиданно зазвенело и задребезжало, как мелочь в горсти. Сразу стало не хватать воздуха. На Толяна девятым валом накатила дурнота. Он обессилено опёрся о капот машины.
— Ты как себя чувствуешь, Кондачок? — поинтересовался Арсений, — что-то ты позеленел.
— Терпимо, — выдохнул Анатолий Анатольевич.
— Точно?
У Кондакова не хватило сил ответить, он только неопределённо кивнул. Внутри у него всё дребезжало и тряслось, как будто кто-то недобрый врубил мощный блендер на всю катушку и наслаждается толикиными страданиями.
— Пойдём что ли, ребятишки, по пещерам? — предложил Роберт.
У Кондакова потемнело в глазах и прострелило левый висок. Толика теперь бросало то в жар, то в холод. Озноб сопровождался «гусиной кожей», жар — проливным потом.
— Да, ребятишки, пора по норам, — поддержал его Гога, собираясь домой.
У Кондакова внутри что-то упало и зазвенело, потом ещё и ещё, словно с подноса на кафельный пол посыпались ложки, вилки и ножи. Затем настала очередь тарелок, блюдец и чашек, наконец, рухнул сам поднос. Анатолий Анатольевич стал медленно сползать на землю.
Роберт и Гога скрылись в подъезде, Арсений остался, с тревогой наблюдая за Кондаковым. Тот, утирая холодный пот со лба, всё-таки втиснулся в «BMW» и включил кондиционер. Стало немного полегче. Толик опустил дрожащие руки на руль и понял, что не сможет вести машину. Физически не сможет. В стекло постучал Арсений.
— Можно?
— Залезай.
Бывший приятель сел в машину, с состраданием посмотрел на Кондакова и предложил:
— Толян, хочешь, я тебе пиво приволоку?
— Не надо.
— А давай тогда ещё стих прочту? Как раз по теме.
Арсений, как всякий начинающий поэт, читал свои вирши каждому встречному поперечному, включая телеграфные столбы и мусорные баки.
— Сделай одолжение, — закатил в изнеможении глаза страдающий Кондаков.
Эпиприпадок
У моей крёстной дочи
Годовщинка одна.
Я с устатку был, с ночи
И уже с бодуна.
Я припёр без гостинца,
Без жены и коня.
В тоге сизого принца.
Обнимайте меня.
Ох, горят мои трубы,
Так что моченьки нет.
И стучат мои зубы
На манер кастаньет.
Рядом знатные тёлки
С кринолином слоних,
Копошатся в светёлке,
Только мне не до них.
Я застрял в устье ада.
Я попал в лабиринт,
А они мне про чадо —
Мол, она вундеркинд.
Сколько можно телиться?
Дребезжит в теле дрожь.
Я могу разозлиться
И устроить дебош.
Мне поправить здоровье
Хватит грамм пятьдесят,
Намешать водку с кровью,
А они тормозят:
То тарелка с щербинкой,
То в фужере сверчок,
То в сортирной кабинке
Умыкнули крючок.
Накатите же, черти!
Да не дайте пропасть,
Чтоб похмельные черти
Не отправили в пасть.
Ох, дрожат мои руки,
Словно заячий хвост.
Сердце ухает в брюки.
Не пора ль на погост?
Я бы принял смерть стойко.
Если на кураже.
Скажут: «Парень, постой-ка»,
А я помер уже.
Но нет, капля за каплей
Ужас в душу ползёт,
Словно белую цаплю
Чёрный пудель грызёт.
Не томите, Иуды.
Наливай мне, Андрей,
Хошь в какую посуду,
Лишь бы, гад, побыстрей.
Но, схватясь за «губастый»,
Не успел донести.
Чую, склеились ласты
И стакан не спасти.
Я звездою падучей
Завалюся с небес
И забьюся в падучей,
Словно пойманный бес.
Будут стены шататься,
Косяками трясясь,
А людишки шептаться,
Деловито крестясь.
Суньте в зубы мне ложку,
Завяжите в узлы.
Да скорей в неотложку
Позвоните, козлы!
А мне съездят по морде
И заткнут за диван:
«Ты нам праздник не порти,
Не за этим был зван».
— Я вот также однажды утром, в понедельник, умереть боюсь, — признался Кондаков, — откинуть хвост с большого бодуна. Согласись, глупо и обидно отдуплиться с крутой похмелюги.
— Смерть — это не страшно, — стал успокаивать Арсений, — смерть — это как отпуск, как каникулы.
— Я жить хочу, — затрепыхался Толик.
— Жить все хотят, — утешил Арсений, — но не у всех получается. Меньше вечером пей, тогда и утром не будет так тяжко. Или, вообще, завяжи. В нашем возрасте так бухать, как ты — негуманно.
— Что ж мне так плохо-то! — взвыл Кондаков.
— Видишь ли, — просветил Арсений, — от ломки ещё не умер ни один наркоман, а от банального похмелья умирает каждый тридцатый. И чем старше бухарик, тем вероятность больше. Так мне один нарколог говорил. Если сейчас не похмелишься — можешь ласты склеить. Я предупредил.
— Мне нельзя, — прохрипел Кондаков, — я за рулём.
— Такси вызови, — посоветовал Арсений, — или, вообще, задвинь ты эту работу.
— Не могу, я в трёх квартирах ремонт делаю. Как закончу, уеду от вас, от оглоедов. А эту халупу сдам.
— Куда тебе три квартиры?
— Одну нам с женой, вторую — сыну, третью — дочке. Ты-то своему сыну хоть помогаешь?
— Пусть сам старается.
— Сволочи вы всё-таки, «ребятишки», — передразнил Анатолий Анатольевич, — ну, ладно, мне ехать пора.
— Будь здоров, — Арсений вылез из машины.
Он постоял, посмотрел на удаляющийся «BMW» и задумчиво проронил, обращаясь к восходящему солнцу:
— Смерть — это когда ты просыпаешься, а тебя уже нет.
Анатолий Анатольевич порулил на работу, время от времени, прикрывая глаза от мучительной головной боли.
— Завяжу, — прошелестел Кондаков, — с сегодняшнего же дня и завяжу. Так и скапуститься недолго.
Толика немного отпустило.
«У меня же две пятилитровые бутыли вискаря остались», — вспомнил Кондаков, — «нет, сначала их допью, тогда и брошу».
Старшего менеджера опять приплющило.
«Да чёрт с ним, с этим виски, здоровье дороже», — бесповоротно решил Толян, — «лучше шурину подарю, пусть травится».
Только Кондаков принял это судьбоносное решение — как стало совсем хорошо.
«Хрен ему на рыло, а не десять литров виски», — пожадничал старший менеджер, — «не заслужил, дармоедина. И жена будет ругаться, что её брата спаиваю. Обойдётся шурин, сам выпью».
После этих мыслей в голове у Кондакова снова разорвался похмельный фугас. Осколки ударили в затылок и под ложечку.
«В гробу я видел это пойло. Лучше я его в унитаз вылью», — подумал, и сам ужаснулся своему решению Анатолий Анатольевич, — «нет, в унитаз — это, пожалуй, чересчур. Шурину отдам».
Анатолий Анатольевич добрался до работы и вставил пистон всем подчинённым, а потом и сам попал под раздачу. Хозяин их корпорации внезапно объявился после утреннего совещания и устроил менеджерам высшего звена основательный разнос. Хозяин сидел в глубоком кресле, похожем на трон, отёкший, оплывший, пышущий недельным перегаром и грозился «выгнать всех ворюг, дармоедов и алкоголиков к чёртовой матери»! А по этажам плавал и струился неистребимый запах перегара, складывалось ощущение, что им не разит только от секретарш и уборщиц, хотя Кондаков и за это бы не поручился. Так за заботами и делами прошёл первый день недели. Старший менеджер, наорав на очередного «планктона», засобирался домой. «Эх, сейчас домой приеду, зубки вискариком почищу», — потёр руки Анатолий Анатольевич, усаживаясь за руль, — «да под капу-у-устку».
Кондаков умер от острой сердечной недостаточности ровно через неделю. Утром, в понедельник.
Самый надёжный способ похудеть
На двадцать пятом году жизни Верочка Плюхина озаботилась похуданием. Ну, не то, чтобы озаботилась, а скорее задумалась. Правда, с одной стороны, ей очень хотелось сбросить вес и больше его не набирать, с другой — лопать, ей хотелось ещё больше. Однако сейчас на кону стояло её замужество, а девушки такими вещами обычно не шутят.
Верочка, склонная к полноте, и раньше предпринимала попытки сбросить вес. Это происходило всегда спонтанно, и было вызвано или приближающимся летом и пляжным отдыхом, или походами по магазинам, где вся гламурная одежда шьётся на дистрофиков и худосочную немочь, а нормальным женщинам вроде неё остаются только бесформенные балахоны милицейских расцветок. Верочка пробовала и голодом себя морить, и покупала годовой абонемент на фитнес, и даже приобретала джинсы на три размера меньше. Увы, все эти меры вызывали противоположный эффект: после недельной голодовки у Плюхиной открывался такой жор, что в холодильнике перегорала лампочка, а родители начинали поглядывать на любимую дочурку с плохо скрываемым испугом. То же самое случалось с ней и после занятий фитнесом. Верочка выкладывалась на тренажёрах, как олимпийская чемпионка перед решающими соревнованиями, но стоило ей вернуться домой, как на неё нападал такой хомяк, что ей самой становилось жутко. В результате голода и занятий фитнесом Плюхина набирала ещё пять — семь килограмм, кляла, на чём свет стоит, свою конституцию и на этом успокаивалась. Она раздаривала купленные в запале джинсы сухопарым подругам и снова с головой окуналась в работу.