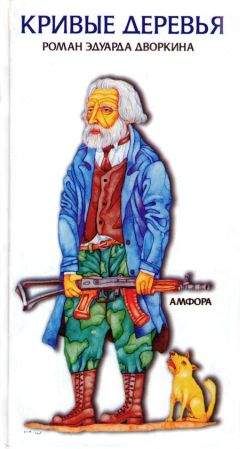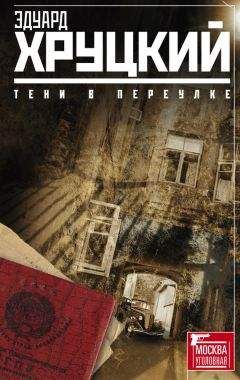Эдуард Дворкин - Государство и светомузыка, или Идущие на убыль
Множество зажженных свечей явили аккомодирующемуся взору обширную запущенную залу. Несколько человек обоего пола бежали к ним с разных сторон ее. Александра Михайловна мгновенно была разлучена с корзиной, Степана Никитича, к немалому облегчению, освободили от опостылевших ему припасов. Стремительно нахлынувшая человеческая волна столь же стремительно и отхлынула. Трофеи были выброшены на застеленный порванными газетами стол, «Смирновская» обстукана, раскупорена и разлита, жестянки с паштетами вспороты, сыр разломан, торт покромсан на крупные ломти. Расхватав разнокалиберные стаканы и чашки, мужчины и женщины синхронно выпили и принялись за еду.
Степан Никитич, изготовившийся к долгому, церемонному знакомству с расшаркиванием и пространнейшими извинениями за позднее и нежданное вторжение, был окончательно сбит с толку. Александра Михайловна, сдав спиртное, сразу отлучилась, предупредив, что желает по маленькому — не зная, что предпринять, он стоял на пороге и мял шляпу. Люди за столом так же молча и сосредоточенно выпили по второму разу. Он решился уйти, но появилась Александра Михайловна, смеясь, подхватила его, подвела танцевальным шагом к пирующим, усадила на колченогий табурет, примостилась рядом сама. Получилось к моменту — компания изготовилась пропустить по третьему разу. Александра Михайловна ловко подставила виночерпию две добавочные посудины (Степану Никитичу выпала смятая жестяная кружка, Александре Михайловне — аптекарский пузырек с черепом и скрещенными берцовыми костями). Степан Никитич выпил залпом. Тарелок на столе не было, он замешкался, не зная, как и чем закусить — расторопная Александра Михайловна пальчиком втолкнула ему в рот большую маринованную редиску.
Алкоголь сразу впитался, немного расслабил его и одновременно сгруппировал — Степан Никитич, похрустывая терпкой огородной культурой, смог, наконец, по-настоящему осмотреться и как-то соотнести себя с обстановкой.
Он был участником позднего и не слишком церемонного ужина при свечах. Не считая его с Александрой Михайловной, за столом вольготно размещались пятеро мужчин и две женщины (Степан Никитич, стоявший у окна в служебном кабинете, помнил все с фотографической точностью). На торце, в заношенном стихаре с закатанными руками сидел совершеннейший арап, пречерный, с кудрявыми волосами и бородою. Предупрежденный заранее, Степан Никитич без труда определил в нем хозяина усадьбы Ивана Ивановича Епанчишина. Кособокая инвалидка с чудовищно распухшими веками располагалась от него одесную. Это была, по всей вероятности, жена арапа и подруга Александры Михайловны Варвара Волкова. Еще одна женщина, пергаментная старуха с большими седыми усами, астматически ловя ртом воздух, возлежала в придвинутом к столу вытертом кресле. Степан Никитич и вовсе не удивился, заприметив среди гостей путевого обходчика, час или два тому сделавшего им приятное пожелание. Бедняга продолжал почесываться и дергать коленями. Место напротив Степана Никитича занимал бритый господин примерно одних с ним лет, в толстовке и с моноклем в глазу. Компанию успешно дополняли еще двое. Практически не различимые между собою, угрюмые и узколобые, они были наряжены в одинаковые кожаные фартуки и имели вид наемных убийц.
Степана Никитича остро потянуло прочь — к заждавшейся его семье, просто на свежий воздух, подальше от этих странных и, вероятно, порочных людей. В нем шевелились недобрые предчувствия, он обязательно откланялся бы и ушел, кабы не кромешная мгла за окнами да лежавшая у него на коленях прекрасная и опытная рука.
Пять или семь опорожненных бутылей были спущены под стол и катались под ногами, на смену им хозяин дома откупоривал новые — огненная жидкость синхронно проглатывалась, вилки, суповые и чайные ложки, просто пальцы тянулись к растерзанной на газетах еде, переправляя ее без разбора в монотонно жующие рты. Избегая смотреть, как гусиная печень мешается с селедкою, а куски порушенного сливочного торта с охапками квашеной капусты, Степан Никитич, выпивший еще раз или два, вертел перед собой кусочек сыру, механически поглаживал ласкавшую его руку и водил глазами по периметру залы.
Безотрадная картина всеобщего разора и запустения представлялась ему во всей своей неприглядности. Стены, обитые некогда дорогой материей, были грязны и ободраны, мебель разбита и положена плашмя, какие-то тряпки, бумаги и осколки стекла вперемешку со сломанным садовым инструментом и лошадиной сбруей свалены в кучи до самого потолка.
Несколько раз он порывался обратиться к Александре Михайловне, но та, отставив в сторону тарталетку или сардинку, неизменно прикладывала к масляным губкам запрещающий пальчик и обнадеживающе кивала: уже скоро!
Ее рука более не доставляла ему никакого удовольствия, он чувствовал себя уставшим, был сердит на себя, втравившегося, и ее, втравившую его в непристойный и затянувшийся фарс… боковым зрением он увидел, что арап снимает сургуч с последней водочной бутыли. Незамедлительно распитая и отправленная под ноги, она была заедена последними крохами. Рты переставали жевать, спины медленно разгибались. Рука Александры Михайловны сделала ему больно. Степан Никитич подобрался. И тут же густая, плотная, застоявшаяся тишина была разорвана пронзительнейшим воплем. Хозяин дома арап Иван Иванович Епанчишин, выбросив черную руку в сторону бритого господина, буквально захлебывался от ярости.
— И вы… вы смеете утверждать, что всех нас спасет земство?! Эти слабосильные дохтура и учителишки?!! Эти гнилые чеховские интеллигентишки на местах?!!
Немедленно поднявшийся оппонент разразился сардоническим смехом.
— А по-вашему… что же… ждать манифеста свыше?! — заревел он хриплым басом. — Кланяться идти царю-батюшке?!! Задницу монаршью целовать?!!
— Ежели отчизне во благо, — совсем уже зашелся Иван Иванович, — то и целовать нужно!!
— Вот вы и целуйте, а я в эту задницу картечью стрелять стану!!
Тяжелый костыль, пущенный рукою Варвары Волковой, едва не угодил бритому господину в монокль.
— Гапон, Азеф, провокатор! — едва ли вникнув в суть спора, завизжала инвалидка, выплевывая фонтаны белой пены. — Убей его, Иван! Сейчас же убей!
Епанчишин, по-обезьяньи ловко заскочив на стол, пошел на недруга, давя и расшвыривая оставшийся после пиршества мусор. Господин в толстовке, с чудом уцелевшим моноклем, не медля, поднял с пола бутылку и ударом об угол отбил донышко.
Физически сильный Степан Никитич хотел вмешаться — его упредили убийственные кожаные близнецы. Без суеты, спокойно и деловито, один снял со стола разбушевавшегося хозяина, другой огромными ручищами спеленал взбеленившегося гостя. Буяны тотчас были вынесены в боковую дверь, вернулись братья уже без груза.
Тем временем разошедшаяся инвалидка успела не на шутку сцепиться с лежавшей в кресле усатой старухой.
— Фрейлина чертова! Непротивленка! Бочка старая! Опила нас, объела! Пиявка водочная!
— Отринь, каракатица! — грозно отрыгивалась ветеранша. — Провались в тартарары!
— Задушу! — завыла Волкова, на ощупь разыскивая врагиню. — Этими вот руками… сейчас!..
— Давай, давай, кротиха! — подзуживала убогую старая дама, доставая из-за корсажа браунинг с перламутровой рукояткой. — Одной дыркой меньше, одной больше…
Близнецы-разбойники, не доводя и здесь до смертоубийства, тем же путем вынесли разогревшихся дам.
Оставшийся в зале путевой обходчик с трудом подпрыгнул, почесался и, пожелав Брылякову с Александрой Михайловной ни пуха ни пера, принялся гасить свечи.
Нетвердо ступавшая Александра Михайловна, смеясь напавшей на нее икоте, повела Степана Никитича наверх по стонущим разбитым ступеням.
В каморке со скошенным потолком стояла роскошная, орехового дерева кровать, ночной горшок, ведро с водою.
Александра Михайловна припала к Брылякову и тут же оттолкнула его от себя.
— Проведаю Варвару и вернусь… любимый…
В окно вползал белесый клочковатый рассвет. Степан Никитич высунулся подальше, схватился за ветку и, не раздумывая, спрыгнул в высокую мокрую траву.
21
Экстренно собравшийся Центральный Комитет единогласно постановил: Сувенирову Оресту Пахомычу превратиться в камбалу.
Большевики не имели права рисковать жизнью и деятельностью своего единственного вождя. Захлебнувшаяся революция 1913 года вызвала волну жестоких и кровавых репрессий. Лучшие сыны партии были схвачены и подвергнуты неслыханным надругательствам. Экстремальная обстановка продиктовала корректировку курса: вся тяжесть пропагандистской работы перекладывалась на партийных дочерей и принимала специфическую окраску, руководителю же и организатору грядущих побед предписывалось затаиться и лечь на дно.