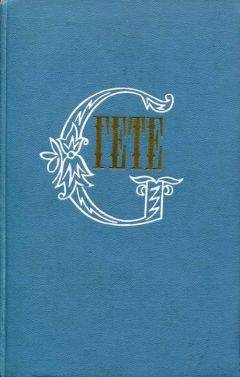Гаральд Бергстед - Праздник Святого Йоргена
— О Йорген, святой Йорген…
— Вот то-то и оно. Для меня это единственный выход. Я наверняка спасу свою жизнь, а ты наверняка избавишься от всех жизненных невзгод, и плевать тебе будет на курфюрста с его дикими конями.
От ужаса Франц онемел. Вылупив глаза, он с отчаянием смотрел туда, где вырисовывался зловещий силуэт виселицы. Губы его беззвучно шевелились:
— Неужили ты можишь… Неужили…
— Ну что ты так расстраиваешься? — спросил Коронный вор. — Было бы из-за чего! Будь же молодцом, старина, и не вешай нос! Ты же знаешь, как меня огорчает вся эта история. И ты знаешь, как я люблю тебя, старый дружище. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы скрасить твои последние минуты. Ах, вот мысль! Я велю трубачам проводить тебя до самой виселицы. Ты ведь всегда был большим любителем музыки. Итак, счастливого пути, старина, и вытри глаза.
Слезами горю не поможешь… Эй, стража! Я простил сего великого грешника.
Теперь ведите его к виселице да прихватите с собой несколько трубачей. Эй, трубачи-молодцы, играйте всю дорогу псалмы для спасения его души. Да трубите погромче, когда его будут вешать!
Губы Франца Поджигателя все еще беззвучно шевелились, а сам он с ужасом смотрел на Коронного вора, лицо которого выражало самое неподдельное участие.
До этого момента в душе Франца еще были живы какие-то смутные представления о земной справедливости и правосудии, с которым сам Франц, понятно, был всегда не в ладах, а также довольно романтическое убеждение, что настоящий друг никогда не подведет своего друга. И вот земное правосудие в образе Коронного вора осудило его, и его друг, Коронный вор, улыбаясь, сам вынес ему роковой приговор.
И последние религиозные представления Франца рассеялись, как рассеивается тьма, озаренная ярким светом воровского фонаря, и он постиг первооснову, на которой зижделся окружающий его мир: человек человеку волк.
Франц отчаянно завыл, когда стражники схватили его и, как он ни сопротивлялся, поволокли под радостные возгласы толпы к водокачке и ограде, откуда тропинка висельников ведет к Виселичному холму.
— О боже правый!
Первый раз в жизни он сказал правду, и за Это его вешают, вешают под звуки псалма. Что же это за мир, мир виселиц и воронов, живущих падалью? И слезы хлынули из глаз лихого разбойника Франца, словно вдруг забил чудотворный источник, а из его перекошенного ужасом рта неслись отчаянные вопли.
В эти последние пять минут своей жизни Франц испытал тяжкие муки, какие испытывают все правдолюбцы, ибо он тщотно возвещал людям истину, которую заглушали ликующие крики богомольцев, охваченных религиозным экстазом.
— Вот он, Коронный вор, вот он! Вот он! — вопил Франц, извиваясь в руках стражников; он рыдал и хрипел, а над виселицей в северо-западной части неба сиял утренний месяц.
Но толпа лишь презрительно смеялась, семь пьяных трубачей громко трубили в трубы, а стражники волокли его по камням и кочкам к виселице.
Последние слова, которые Франц выкрикнул на бренной земле, когда его вздергивали, были словами истины, — но их заглушили веселые звуки фанфар и восторженные голоса богомольцев, которые во всю глотку распевали псалом:
Добрый Йорген к нам пришел
нас спасти от бед и зол!
Немезида
Но Немезида, загадочная богиня Возмездия, была уже в пути… и не пешком, а верхом, — на великолепном скакуне она мчалась во весь опор с грамотой его высочества курфюрста к городским властям.
* * *Над самым обрывом одиноко стоял в своем чудотворном плаще святой Йорген и смотрел вдаль… С Виселичного холма слабо доносились звуки фанфар. А он, исполнитель главной роли, повелитель города и собора, дорогой и загадочный гость, все стоял и смотрел…
Он слышал, как гремят фанфары, видел Виселичный холм, черный, как муравьиная куча, кишащая праведными муравьями, которые волокли на виселицу одного неправедного.
Он видел, как Франц повис в воздухе и задрыгал ногами, утратив последнюю опору в этом непостижимейшем из миров.
Ястребиные глаза Коронного вора отливали стальным блеском. Его лицо выражало непоколебимую твердость и решимость, каг клюв орла.
Еще один муравей покинул муравьиную кучу жизни. В общем, Коронному вору все это было совершенно безразлично. Однако если бы этот маленький муравей не отправился на тот свед, то, возможно, он сам болтался бы на виселице, что, разумеется, никого бы особенно не огорчило, но для него уже померкли бы эти чудесные краски, эти зеленые холмы, озаренные ярким утренним солнцем. А он был не прочь продлить свое пребывание на грешной земле.
Но в самом сокровенном уголке его сердца что-то стонало, плакало, рыдало, сверлило и жгло как огнем, взывало к правде и справедливости. Ведь у него была кроткая и чистая душа его матери и деда… Но ее сжимали со всех сторон тиски житейской мудрости, доставшейся ему в наследство от отца.
Он чувствовал, что может совершить великие и прекрасные дела в этой жизни, которую любил… Но ему не повезло с самого начала. Незваным он явился на свет божий, незваным был всюду, куда забрасывала его судьба. Безвинен философ, который сказал: если неправильно застегнуть первую пуговицу, то все пуговицы будут застегнуты неправильно.
Честным путем ему уже не занять достойного места в жизни — так говорил его житейский опыт. Он достиг величайшего триумфа, но лишь с помощью обмана — без обмана он ни минуты не продержался бы в роли святого.
Он и дальше должен обманывать, как обманывают все остальные. И тут его снова охватило чувство отвращения, отвращения к этому мерзкому существованию, к пресмыкательству перед сильными мира сего, ко всему этому обезьяньему миру, который погряз в невежестве, лжи и суеверии…
Высоко над землей, над людским морем, легко и свободно взмахивая крыльями, летели два лебедя, не знающие богов и человеческих законов; они летели к далеким пустынным берегам, к черным утесам, о которые с грохотом дробятся могучие волны великого океана…
Микаэль провожал их взором, полным тоски.
* * *Владыки первосвященники быстро покончили и с покаянием и с омовением рук в источнике Йоргена. Они пропели псалом, помолились богу, как велит древний обряд, окропили желающих святой водой и сбросили наконец с себя покаянные одежды, чтобы вновь предстать во всем блеске своего могущества.
Но блеска не было. Их словно пришибли пыльным мешком.
Всю жизнь они играли только главные роли: у них выработались и важная осанка, и уверенная поступь, и властный голос. Но сегодня их пускали только на выходы, как простых статистов… Куда ж это годится?.. Этак им совсем откажут от места и тогда…
Вялые и понурые, словно только что кастрированные быки, они стояли возле источника и о чем-то тихо переговаривались, искоса поглядывая то на святого Йоргена (один бог знает, что у него на уме), то на Олеандру, стоявшую у соборной кареты; ее окружили подружки, смеющиеся, довольные, взволнованные и сгорающие от любопытства.
В конце концов первосвященники принялись острить сами над собой, но то был юмор висельников.
— Какого черта мы шатаемся взад и вперед по городу и горланим эти дурацкие псалмы, — пробормотал главный капеллан. — Нас все равно никто не слушает.
Но программа есть программа, и капеллан начал декламировать:
Когда мой дух, усталый и больной,
уж грешного желанья не услышит,
я полечу к тебе, о Йорген мой! —
туда, где все вокруг покоем дышит.
Это был его коронный номер, который он всегда исполнял с блеском и неизменным успехом. Он играл своим рокочущим басом, словно произносил прочувствованный застольный спич, а в интонацию подпускал столько елея, что из глаз растроганных слушателей слезы катились градом. Но на сей раз капеллану не помогли никакие ухищрения: впервые публика осталась равнодушной.
— Да пойте же, дьяволы! — прошипел гроссмейстер, когда они дошли до третьей строфы покаянного псалма:
С просветленною душой
вновь вернемся мы домой.
— Очень им нужно наше пение! Они бредят своим Йоргеном и ничего другого знать не хотят, — обозлился капеллан.
— А что будет потом? — шепотом спросил секретарь. — Мы вернемся в собор?
Покаявшись и очистившись от грехов в источнике, святые отцы обычно возвращались под звуки тромбонов в собор и в большом соборном зале подкреплялись жареными фазанами и жарким из дикого кабана.
— Он сам решит, — прошептал гроссмейстер, продолжая петь.
— А разве он еще ничего не сказал? — рассердился казначей, не переставая, однако, петь (он исполнял партию первого баса).
— А кто решится его спросить, ты, что ли? — пропел гроссмейстер на мотив псалма.
— Откомандируйте кого-нибудь к Олеандре, — зашептал хранитель плаща. — Она должна знать. А нет, таг спросит у него.