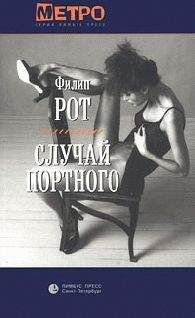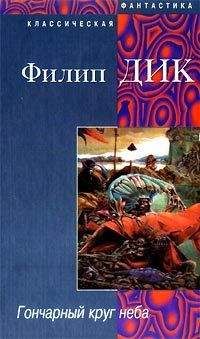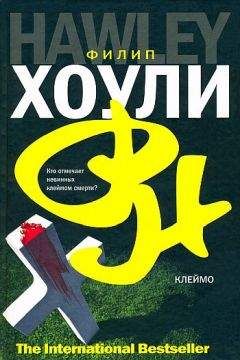Филип Рот - Болезнь Портного
Если же кто-то хочет покончить с собой из-за того, что я трезво гляжу в будущее, — что ж, это ее проблемы. Я полагаю, что их угрозы покончить с собой только потому, что я достаточно мудр и предвижу предстоящие страдания и взаимные обвинения, — ничем не оправданы…
Детка, пожалуйста, не надо так выть — соседи подумают, что кто-то хочет удавить тебя. Детка (слышится мне мой собственный голос. Я умолял деток в прошлом году, умоляю в этом и буду умолять их всю жизнь!), не надо. С тобой все будет в порядке. Ей-Богу. Честное слово. У тебя все будет просто замечательно. Прекрасно. Гораздо лучше, чем сейчас. Так что вернись, пожалуйста, в комнату, сука, и дай мне уйти!
— Ты! Ты со своим грязным членом! — орет последняя из разочарованных неудавшихся невест, моя странная, стройная и сумасшедшая подружка, которая, позируя для рекламы нижнего белья, зарабатывает за час столько же, сколько зарабатывал в неделю ее неграмотный отец в угольных шахтах Западной Виргинии. — А я-то думала, что ты порядочный человек. Сукин ты сын, мать твою разэтак!
Эту красотку, которая так насчет меня заблуждалась, зовут Мартышкой. Прозвище отражает ее пристрастие к одному симпатичному извращению, которому она предавалась незадолго до нашего знакомства, после чего занялась уже более грандиозными делами. Доктор, у меня никогда прежде не было такой девушки. Она стала воплощением моих самых дерзких юношеских мечтаний — но жениться на ней?! Она что, серьезно?! Видите ли, несмотря на все свои духи и прочие штучки, она очень недооценивает себя, и одновременно — в чем причина всех наших проблем — жутко переоценивает меня. Она — запутавшаяся, смущенная Мартышка, причем, боюсь, не самая яркая.
— Интеллектуал! — визжит она. — Возвышенная натура! Да ты, хрен ты этакий, больше заботишься о неизвестных тебе гарлемских неграх, чем о девушке, которая сосет твой член уже больше года!
Она смущена и расстроена; и явно сошла с ума, ибо орет она с балкона гостиничного номера в Афинах. Я в это время стою на пороге комнаты с чемоданами в руках и умоляю ее вернуться в номер, чтобы я мог уйти и успеть на самолет. Потом на лестнице появляется усатый, оливкового цвета управляющий. Он бежит к нам, размахивая руками — и тогда я, глубоко вздохнув, говорю:
— Послушай! Если тебе так хочется спрыгнуть с балкона — прыгай!
Разворачиваюсь и ухожу. И последнее, что я слышу — это ее вопли о том, что она соглашалась на омерзительные вещи, к которым я принуждал ее, только из любви ко мне («Любви!» — визжит она).
А дело вовсе не в этом, доктор! Дело совсем в другом! Эта хитрая шлюха хотела привить мне чувство вины, сломать меня — и заполучить таким образом мужа. Потому что ей уже двадцать девять, и она хочет замуж — но это ведь не причина для того, чтобы я связал себя узами брака.
— Мне в сентябре тридцать лет исполняется, сукин ты сын!
Правильно, Мартышка, правильно! Что лишний раз подтверждает: именно ты, а не я, несешь ответственность за свои ожидания, надежды и мечты! Понятно? Ты!
— Я расскажу о тебе всему миру, хрен ты бессердечный! Я расскажу всем, какой ты грязный извращенец! Я расскажу им, чем ты заставлял меня заниматься!
Пизда! Ей-Богу, я счастлив, что вышел из этого живым. Если я вышел!
emp
Однако вернемся к моим родителям. Похоже, моя холостая жизнь и этим людям не приносит ничего, кроме горя. То, что недавно мэр Нью-Йорка назначил меня заместителем председателя городской комиссии по обеспечению населения равными возможностями — не значит для моих родителей ровным счетом ничего. Изменение моего статуса — категория вне их понимания. Хотя, конечно, это не совсем так: стоит моему имени появиться на страницах «Нью-Йорк Тайме», как мама с папой засыпают газетными вырезками всех наших родственников. Половина отцовской пенсии уходит на оплату почтовых отправлений, а маму, похоже, придется кормить внутривенно, поскольку рот ее занят круглые сутки болтовней по телефону — она названивает всем, чтобы похвалиться Алексом. В общем, все, в принципе, идет по-прежнему: они не нарадуются на сыночка-гения, они счастливы, что у меня такая карьера, что имя мое появляется в газетах, что я работаю с нашим замечательным новым мэром, что я поборник Правды и Справедливости и непримиримый враг бандитов, изуверов и крыс (ибо целью моей комиссии является, как это зафиксировано в изданном Городским Советом законодательном акте, — «обеспечение равенства, предотвращение дискриминации и укрепление взаимопонимания и взаимоуважения»)… но, как вы уже догадались, кое в чем я опять не совсем идеален.
Можете ли вы себе представить что-либо подобное?! Сколько они жертв принесли ради меня, и сколько они сделали для меня, и как они гордятся мною; они — лучшие агенты по моей рекламе; о таких только может мечтать любой сын (это они так говорят), и вот на тебе — я опять не хочу быть идеалом. Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное? Я просто не хочу быть идеалом. Что за капризный ребенок?!
Они приехали в гости:
— Где ты откопал такой ковер? — спрашивает отец, морща нос. — У старьевщика купил, или кто-то подарил его тебе?
— Мне нравится этот ковер.
— О чем ты говоришь? — возмущается отец. — Он же совершенно вытертый.
Спокойно.
— Он не новый, но и не вытертый. Договорились? И хватит об этом.
— Алекс, — вступает мама. — Но он же весь вытертый.
— Поскользнешься на нем, вывихнешь колено, — говорит отец, — вот тогда у тебя будут настоящие неприятности.
— А с твоим коленом, — вторит мама многозначительно, — это чревато большими неприятностями.
Они уже готовы свернуть ковер и выкинуть его из окна. А потом забрать меня домой!
— Это замечательный ковер. И с коленом у меня все в порядке.
— Оно было совсем не в порядке, — тут же напоминает мне мама, — когда ты был в гипсе по самое бедро, дорогой. Как он волочил эту гипсовую повязку! Больно было смотреть!
— Мама, это случилось, когда мне было четырнадцать лет.
— А когда гипс сняли, — подхватывает отец, — то ты не мог согнуть ногу в колене. Я думал, ты останешься калекой на всю оставшуюся жизнь. Я ему говорю: «Согни ногу! Согни ногу!» Я умолял его об этом утром, днем и вечером. «Согни ты ногу! Ты что, хочешь калекой остаться?»
— Ты напутал нас до смерти со своим коленом, Алекс.
— Но это было в тысяча девятьсот сорок седьмом году. А сейчас — тысяча девятьсот шестьдесят шестой! Гипс сняли двадцать лет назад!
Желаете услышать неоспоримый аргумент моей мамы?
— Вот увидишь, когда-нибудь ты сам будешь родителем, и тогда поймешь, что это такое. И, может быть, хоть тогда ты перестанешь насмехаться над своей семьей.
Девиз, который выбит на еврейской монете — он выгравирован на теле каждого еврейского ребенка! — это не «ВВЕРЯЕМ СЕБЯ ГОСПОДУ», а «ОДНАЖДЫ ТЫ СТАНЕШЬ РОДИТЕЛЕМ И ТОГДА ПОЙМЕШЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ».
— Это случится при нашей жизни, Алекс? — спрашивает мой ироничный папа. — Это произойдет прежде, чем я окажусь в могиле? Нет — он лучше будет ходить по вытертому ковру, — говорит мой ироничный папа-логик, — чтобы упасть и раскроить себе череп! И позволь мне спросить у тебя, независимый мой сын, узнает ли хоть одна живая душа, что ты лежишь на полу, истекая кровью? Когда ты не отвечаешь на мои звонки, мне представляются Бог весть какие ужасные картины — и кто же тогда позаботится о тебе? Кто принесет тебе хотя бы миску супа, если, не дай Бог, с тобой что-нибудь приключится.
— Я в состоянии позаботиться о себе сам! Я отличаюсь от некоторых, — парень, да ты все еще грубишь старику?! А, Алекс? — от некоторых людей, которые только и делают, что трясутся от страха в ожидании вселенской катастрофы.
— Ничего-ничего, — говорит отец, зловеще кивая. — Вот заболеешь как-нибудь… — и вдруг вспышка ярости, невесть откуда взявшийся приступ абсолютной ненависти ко мне: — Ты постареешь, и тогда ты не будешь такой независимой важной шишкой, как сейчас!
— Алекс, Алекс, — начинает причитать мама, пока отец направляется к окну, чтобы успокоиться, бормоча при этом что-то про «округу, в которой эта важная шишка живет». Я работаю на Нью-Йорк, а он по-прежнему хочет заставить меня жить в прекрасном Ньюарке!
— Мама, мне тридцать три года! Я заместитель председателя городской комиссии Нью-Йорка! Я был лучшим среди всех выпускников юридического колледжа! Помнишь? Я был лучшим всюду, где я только учился! В двадцать пять лет я стал специальным советником одного из подкомитетов палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, мама! Америки! Если бы я захотел оказаться на Уолл-стрит, мама, я бы уже был на Уолл-стрит! Я один из самых уважаемых людей среди коллег по профессии! В эту самую минуту, мама, я расследую случаи незаконной дискриминации в торговле недвижимостью, имевшие место в Нью-Йорке! Случаи расовой дискриминации! Я пытаюсь выведать кое-какие секреты у профсоюза металлистов, мама! Вот чем я занимался буквально сегодня! Послушай, ты ведь помнишь, что это я вскрыл дело о махинациях в телевизионной викторине…