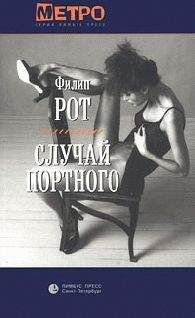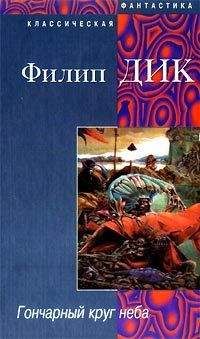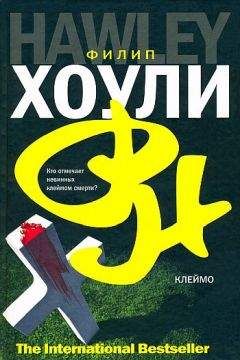Филип Рот - Болезнь Портного
Но мамин монолог продолжается. Подобно тому, как другие дети каждый год слушают историю про Скруджа, подобно тому, как другим детям постоянно читают на ночь любимую сказку — так и меня пичкают главами из истории маминой жизни, исполненной риска и беспокойного ожидания. Эти мамины истории, по сути, и составляют мое детское чтение — помимо учебников, в нашем доме нет других книг, кроме подаренных моим родителям томиков. Они получали эти подарки от людей, навещавших папу и маму во время их болезней. На одну треть наша библиотека состоит из «Семени Дракона» (мамина гистеректомия) (мораль: ничто не лишено иронии, везде таится смех), другие две трети составляют «Аргентинский дневник» Уильяма Л. Ширера и (мораль та же) «Мемуары Казановы» (папин аппендицит). Все остальные книги написаны Софи Портной и являют собой знаменитую серию «Вы меня знаете — в этой жизни я попробую все». Ибо основная идея, которую проповедует в своих произведениях Софи Портная, состоит в следующем: она, Софи Портная, — бесшабашная сорвиголова, которая постоянно рыскает по жизни в поисках неизведанного и получает в награду за свой пыл первооткрывателя лишь тычки и зуботычины. Она на самом деле воображает себя женщиной, которая находится на самых передовых рубежах познания. Мама кажется себе эдакой ослепительной помесью Марии Кюри с Анной Карениной и Амелией Эрхарт. Во всяком случае, именно такой образ матери складывается в голове маленького мальчугана, отправляющегося спать. Мама одела его в пижаму, уложила в постель, подоткнула одеяло и рассказывает сейчас о том, как она, беременная старшей сестрой мальчика, училась водить машину, и как в первый же день после получения прав — «в первый же час, Алекс» — в нее врезался сзади «какой-то маньяк». С того момента она никогда больше не садилась за руль. А может, она рассказывает историю про то, как она, будучи десятилетней девчонкой, хотела поймать золотую рыбку в пруду города Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, куда она поехала проведать больную тетю, — но случайно свалилась прямо на дно грязного пруда. С тех пор она никогда больше не входила в воду, даже если на пляже дежурят спасатели и начался отлив.
А потом следует рассказ про омара. Как она, даже пьяная, сразу поняла, что это не «цыпленок по-королевски», но все же заставила себя проглотить эту гадость — «чтобы заткнуть рот этому Дойлу», — и как потом едва не разыгралась трагедия. С тех пор она никогда не брала в рот ничего, что хотя бы отдаленно напоминало омары.
И потому она просит, чтобы и я не ел омары. Никогда. Если не хочу причинить себе вред.
— На свете есть масса других вкусных вещей, Алекс. Так что не стоит подвергать себя риску остаться на всю жизнь с парализованными руками.
emp
Вот так так! Натерпелся же я горя! Я, оказывается, стал вместилищем такого количества ненависти, о существовании которого даже не подозревал! Доктор, это определенная стадия или то, что называют «материалом»? Я только и делаю, что жалуюсь; противоречия, похоже, бесконечны, отвращение бездонно — быть может, нам стоит продолжить? Я слышу самого себя, наслаждающегося эдаким ритуальным «посасыванием под ложечкой», — а ведь именно по этой причине пациенты психоаналитиков пользуются столь дурной репутацией у обычной публики. Неужели я тогда ненавидел свое детство и своих бедных родителей с той же силой, с какою ненавижу свое детство и родителей сейчас? Если взглянуть на свое прошлое «я» с удобной позиции «я» нынешнего? С позиции того, кем я стал — или не стал? Я действительно извлекаю на свет божий правду, или это простая трепотня? Или трепотня для людей вроде меня — разновидность правды? Прежде чем опять начну жаловаться, я хотел бы заявить, что мой разум подсказывает мне: в то время детство было совсем не таким, каким оно кажется мне теперь — когда я отстранился от него и лишь вспоминаю старые обиды. Сколь бы безбрежным ни было мое смущение, сколь бы чудовищным ни был беспорядок, царивший в моей душе, — я не припомню, чтобы в детстве я принадлежал к тому разряду отроков и отроковиц, которым хотелось бы жить в другом доме и с другими родителями, — даже если у меня и были подсознательные поползновения в этом направлении.
Где бы еще я нашел столь благодарных зрителей? Никто не реагировал на мои пародии так бурно, как мои родители. Я устраивал свои представления во время обеда — мама как-то раз в прямом смысле слова описалась от смеха и бросилась в ванную, истерически хохоча — столь незабываемое впечатление произвела на нее моя пародия на мистера Китцеля из «Шоу Джека Бенни». Что еще? Прогулки. Я до сих пор не забыл те воскресные прогулки с отцом по Викуахик-парку. Вы знаете, стоит мне выехать за город и обнаружить в траве прошлогодний желудь, как в памяти тут же всплывают отец и те наши прогулки. А ведь почти тридцать лет уж минуло.
А про наши беседы с матерью — один на один — я не говорил? Это было еще в те времена, когда я не ходил в школу. За те пять дошкольных лет, что мы с мамой были предоставлены друг другу, — за те пять лет мы переговорили с нею на все темы, какие только можно вообразить.
— Когда я беседую с Алексом, — признавалась мама вернувшемуся с работы усталому отцу, — то могу гладить хоть целый день, совершенно забыв о времени.
А ведь мне, напоминаю, всего четыре года.
Что же касается криков, воплей, слез и страхов — то и эти эмоции были не зряшными. Подтверждением тому — возбуждение, которое я при этом испытывал, и яркость, с какою эти эпизоды запечатлелись в моей памяти. Более того, я знал: пустяк не просто пустяк, а НЕЧТО. Я знал, что самое заурядное происшествие может без предупреждения обернуться УЖАСНЫМ КРИЗИСОМ — таковой мне представлялась жизнь. Один писатель… как бишь его… Маркфилд!.. — у него есть такой рассказ о том, что лет до четырнадцати ему казалось, будто слово «усугубление» — еврейское. Мне еврейскими представлялись три слова: «суматоха» и «бедлам» — два любимых существительных моей матери, — а также словечко «шпатель». Я уже был любимчиком-первоклашкой и быстрее всех поднимал руку, чтобы ответить на любой вопрос импровизированной викторины. И вот однажды учительница еврейского языка просит меня сказать, как называется изображенный на рисунке предмет. Я точно знаю, что мама называет эту вещь «шпатель». В жизни бы не поверил, что это — английское слово. Заикаясь и сгорая от стыда, я сажусь на место. Учитель поражен больше меня. А я — в шоке… Видите, как рано меня начал преследовать злой рок? Видите, с каких ранних лет для меня стало привычным испытывать муки? В данном конкретном случае источником мук является нечто монументальное — шпатель.
О, этот инцидент со шпателем,
Мама!
Вообрази, что я думал о тебе!
emp
Я тут вспомнил — забавное совпадение, — о самоубийстве, происшедшем в нашем доме, когда мы еще жили в Джерси-Сити. Я тогда был еще совершенным маменькиным сыночком, который жил ароматами ее тела и по-рабски зависел от маминых кугеля и рагеле.
Пятнадцатилетний парень по имени Рональд Нимкин, которого все жилички короновали титулом «Хосе Итурби Второй», повесился в ванной. «Какие у него были золотые пальцы!» — причитали плакальщицы, имея в виду, конечно же, его талант пианиста, — «Какой одаренный был мальчик!». И, вслед за этим: «Вы нигде не найдете мальчика, который любил бы свою мать так же сильно, как Рональд!»
Я клянусь вам, что это не дерьмо какое-нибудь — именно эти слова произносили тогда наши соседки. О самых темных желаниях, гнездящихся в человеческом подсознании, эти женщины рассуждали с такой простотой, будто речь шла о ценах на оксидол или консервированную кукурузу! Да что там говорить, если моя собственная мать не далее как этим летом приветствовала меня по возвращении из Европы следующим образом:
— Ну как ты, любимый?
У параллельного телефона стоит ее муж, а она называет меня любимым И ей невдомек: если я ее возлюбленный, то кто же тогда этот шмегег, с которым она живет? Доктор, вам не придется докапываться до подсознания этих людей — оно у них на манжетах написано!
Миссис Нимкин рыдает в нашей кухне:
— Почему? Почему? Почему он так поступил с нами? Слышали? Не «что мы с ним сделали», нет, — почему он так поступил с нами! С нами! С нами — с теми, кто готов был отдать руки-ноги на отсечение ради того, чтобы он стал счастливым человеком, да еще и знаменитым пианистом впридачу. Неужели они и вправду настолько слепы? Как можно жить, будучи столь законченными идиотами?! Вы можете поверить? Разве может человек, будучи вооружен столь сложной машинерией, как мозг, позвоночник и четыре отверстия для ушей и глаз — человек, миссис Нимкин, устроен почти столь же сложно, как цветной телевизор, — разве может человек идти по жизни, не имея ни малейшего представления ни о чьих чувствах и желаниях, кроме своих собственных? Мисис Нимкин, дерьмо вы этакое, я ведь помню вас! Мне было всего шесть лет, но я помню вас, и знаю, что убило вашего Рональда — будущего знаменитого пианиста: ЕГО УБИЛИ ВАША ЕБУЧАЯ ТУПОСТЬ И ВАШ ЭГОИЗМ!