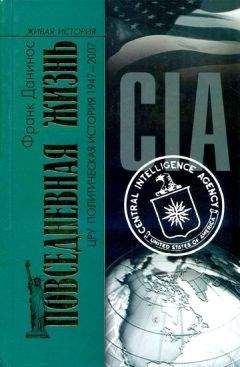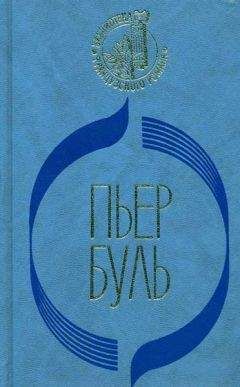Пьер Данинос - Записки майора Томпсона
— 295 песет, сколько это, милый?
И милый объясняет ей, что надо умножить на девять или на десять в зависимости от валютного курса.
— Около трех тысяч франков…
— Подумать только, — изумляется мадам Топен, — точно такие же туфли в Париже стоят по крайней мере в два раза дороже.
Они заходят в магазин. Покупают. Затем встречают других французов, купивших точно такие же туфли (на юге) за полцены. Странная вещь: чем больше вещь нравилась мадам Топен, тем выше ее стараниями поднимался курс франка; я сам видел, как при покупке особенно приглянувшихся ей босоножек курс песеты упал до 7,50 франка, на что этим летом никак нельзя было рассчитывать. Но зато мсье Топе ну куда меньше повезло в Бильбао с пришедшимся по вкусу ему, а не его супруге плащом, и это привело к тому, что курс песеты неожиданно подскочил до 12 франков.
— Я тебя не отговариваю, но ведь это смешно, точно такой же плащ, даже лучше, а главное — дешевле можно купить в Париже…
* * *Сравнив все церкви с соборами, вулканы с горными вершинами, реки с каналами, песеты с франками, француз изыскивает все новые и новые возможности для сравнения своей собственной персоны с аборигенами. Он смотрит на окружающий мир добродушно, порой снисходительно, нередко иронически, причем ирония его тем ощутимее, чем ниже валютный курс данной страны. По правде говоря, он никого не принимает всерьез: американцы в его глазах большие дети, англичане — игроки в гольф, итальянцы — любители макарон, испанцы — тореадоры, южноамериканцы — вечные курортники. Короче, он всегда задается одним и тем же вопросом: «Как это можно быть персом?»[117]
Перед англичанином никогда не возникнет подобная проблема, во всяком случае в такой плоскости. Он раз и навсегда твердо усвоил, что на земле живут англичане и разные другие народности. В нашем мире, где все перемешалось, где можно встретить француза в джунглях, а папуасов в Стокгольме, англичане остаются англичанами и не смешиваются ни с кем. Тридцать километров водного пространства и веками воздвигавшийся барьер традиций и одежд уберегают их остров от любой заразы. Сам англичанин, которому волнения так же не свойственны, как насморк, и который никогда не меняется, как и правила употребления артикля, важно шествует по планете, словно сама Великобритания в миниатюре, недоступный, подобно своему маленькому острову, даже для тех, кто оказывается рядом с ним. Он very much interested[118] нравами всех этих peoples[119], часто столь funny, aren't they[120], и он взирает на них глазами путешественника, очутившегося среди зулусов, готовый даже, если потребуется, дотронуться до них кончиком своего стэка или зонтика. Порой он бывает most surprised[121], что среди них встречаются отдельные индивидуумы, похожие на настоящих джентльменов. Но вместо того, чтобы задуматься над тем, как может этот человек быть персом, он про себя отметит: «Какая pity[122], что он не British»[123].
Магический экран дает ему о внешнем мире представление искаженное, пропущенное через фильтр, невидимый плащ предохраняет его от окружающей скверны: к нему не пристанет грязь переулков Неаполя, он не смешается с толпами на берегах Брамапутры. А стоит французу пересечь границу, и он уже считает своим долгом оправдать двухтысячелетнюю репутацию неотразимого соблазнителя, Дон-Жуана. Он хочет любить, он хочет быть любимым. Великодушно излучая вокруг себя сияние устоявшейся в веках славы и великие принципы 1789 года, он готов искать приключений даже в малайских и негритянских кварталах. Англичанин же, еще более замкнутый, чем эти кварталы, стремится поскорее найти tea-room либо английский клуб. В Бомбее и Каракасе, в Гаване и Люцерне он черпает силы и находит опору в беконе, чае, клубе и виски. Когда же наступает ночь, он с благословения всевышнего спокойно засыпает в стране aliens[124]. Он знает, от любой опасности его оградит титул British Subject[125], как некогда римлян охраняла принадлежность к их государству: civis Britannicus sum[126]. Его карманный разговорник на все трагические случаи жизни убеждает его в этом в разделе «Полиция, жалобы». «У меня украли бумажник! (Саквояж! Пальто!)… Держите вора!.. Пожар!.. На помощь!.. Шофер, в консульство Великобритании!» И сразу же становится ясно, что Форейн офис, Скотланд-ярд и Интеллидженс сервис в ту же минуту всех поставят на ноги. Если же положение обострится и готов будет вспыхнуть бунт, весь мир сразу узнает, что H. M. S. Revenge[127] уже направляется к Адену, дабы защитить мистера Смита.
* * *Может быть, мсье Топен не полагается в такой же степени на своих консулов, не верит в их могущество?
Во всяком случае, я, например, терпеть не могу брать с собой лишние бумаги, зато он обожает путешествовать во всеоружии груды рекомендательных писем. Эти послания, заполучить которые стоит ему немалых хлопот и которые как нельзя лучше отражают процветающую во Франции систему протекции, сообщают герцогу Роведрего, алькальду Гренады или командору Русполо ди Русполи, что мсье Топен путешествует ради собственного удовольствия. Адресаты, естественно, все люди весьма почтенные, и, поскольку они являются обладателями многих резиденций, замков, загородных вилл, их никогда нельзя застать на месте. Неважно! С этими треклятыми письмами, которые, как правило, не доходят до адресата, даже если их ему и доставляют, мсье Топен чувствует себя спокойнее: «А то мало ли, что может случиться…»[128]
Так путешествует мсье Топен… Было бы правильнее сказать: «Так путешествует сама Франция». Потому что мсье Топен везет с собой всю Францию. Англичанин, искренне убежденный в совершенно очевидном превосходстве Великобритании, довольствуется тем, что постоянно дает это почувствовать окружающим (порой в весьма неприятной форме). Француз, так же как и англичанин, уверенный в превосходстве своей родины, вывозит с собой за границу всю Францию: он представляет и Францию мыслящую, и Францию галантную, и Францию — страну свободы. Верцингеторикс и Кристиан Диор, Паскаль и улица Мира — все это он. Тот самый француз, который at home (дома) по любому поводу на чем свет стоит поносит правительственные институты, тот самый француз, который в Париже куда громче восторгается детективным романом, если он написан У.-А. Торндайком, а не Ж. Дюпоном[129], вдруг начинает защищать Францию, ее художников, ее изобретателей с фанатизмом, достойным крестоносца.
Впрочем, разве кто-нибудь собирается нападать на нее? Администраторы отелей, хозяева ресторанов так и тянутся к нему в надежде глотнуть парижского воздуха[130], и мсье Топен с добродушным самодовольством принимает любого на своей собственной «кочующей территории». Хозяин ресторана произносит: «Ах!.. Франция!», и мсье Топен вторит ему: «Ах!» Затем его собеседник восклицает: «Ах! Париж», и мсье Топен отвечает: «Ах!» Разговор продолжается в том же духе: «Ах!» да «Ах!» Весь мир исчезает, остается один Париж.
— Ни один город не может сравниться с Парижем… Ни один, — говорит мсье Топен.
— Я жил, — уточняет итальянец, — на улице Ножнич…
— Ах, — вздыхает мсье Топен — на этой славной улице Ножниц! (Позднее он признается мне, что тут впервые узнал, что таковая существует.)
— Ла торре ди Айфеля!
— Ах! Эйфелева башня!..
— Фоли-Бержер!..
Патетический миг, и после очередного, но на сей раз куда более игривого «ах!» они подмигивают друг другу…
Преисполненный великодушия мсье Топен рыцарски заключает, растягивая слова:
— У каждого человека две родины: его собственная и Франция…
Однако пусть иностранец будет настороже, если только, поняв буквально это знаменитое выражение, он решит принять французское подданство. Ему быстро дадут почувствовать, что вторая родина далеко не то же самое, что первая, и, если ему что-нибудь не нравится:
— … В конце концов, Франция для французов!
Глава XII
40 миллионов спортсменов
В любое время года приятно побывать во Франции, но вы рискуете составить себе о ней ложное представление, если попадете туда с 1 по 25 июля. Один из моих первых приездов во Францию пришелся именно на этот период. Выехав из Гибралтара, я уже перевалил через Пиренеи, направляясь в Париж, как вдруг на перекрестке два жандарма преградили мне путь.
— Проезд запрещен! — объявили они.
Поскольку в то время я еще не избавился от английской привычки никогда не задавать вопросов, я повиновался, не спросив даже, чем вызвано подобное запрещение. Необычное скопление полицейских сил сперва навело меня на мысль, что готовится облава на какого-нибудь крупного бандита. Однако, увидев многочисленных зрителей, весело болтающих у дороги с конными жандармами, я пришел к выводу, что ожидаемое событие не должно носить столь драматический характер. К тому же я обратил внимание на колонну танков, стоявшую по другую сторону шоссе, на проселочной дороге, и совсем было решил, что идет подготовка к военному параду. Но нет, я услышал, как жандармский капитан сказал молоденькому лейтенанту-танкисту, который нетерпеливо похлопывал прутиком по сапогам (его солдат эта непредвиденная задержка огорчила куда меньше):