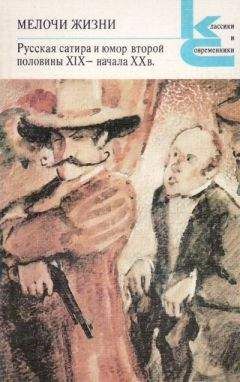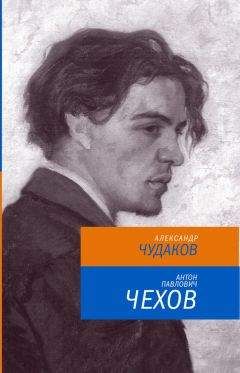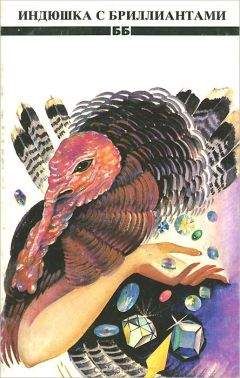Антон Чехов - Собрание юмористических рассказов в одном томе
Увидев, что глаза поручика становятся все сердитее, Филенков умолк и нагнул голову, словно ожидая, что его сейчас трахнут по затылку. Поручик раскрыл рот, чтобы произнести «пошел вон!», но в это время в гостиную вошла блондинка с поднятыми бровями, в капоте ярко-желтого цвета. Узнав поручика, она взвизгнула и бросилась к нему.
– Вася! Офицер!!
Увидев, что Барб (это была одна из воспитанниц m-me Дуду) фамильярна с поручиком, писарь оправился и ожил. Растопырив пальцы, он выскочил из-за стола и замахал руками.
– Ваше благородие! – заговорил он, захлебываясь. – Со днем рождения имею честь поздравить любимого существа! В Париже такой не сыщешь! Именно-с! Огонь! Трех сотенных не пожалел, а сшил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа! Ваше благородие, шампанского! За новорожденную!
– А где Бланш? – спросил поручик.
– Сейчас выйдет, ваше благородие! – ответил писарь, хотя вопрос относился не к нему, а к Барб. – Сию минуту! Девица а ля компрене аревуар консоме! Намедни купец из Костромы приезжал, пятьсот отвалил… Легко ли дело, пятьсот! Я тыщу дам, только спервоначалу характер мой уважь! Так ли я рассуждаю? Ваше благородие, пожалуйте-с!
Писарь подал поручику и Барб по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Поручик выпил, но тотчас же спохватился.
– Ты, я вижу, позволяешь себе лишнее, – сказал он. – Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки.
– Ваше благородие, да, может, вы думаете, что я какой ни на есть свинья? Так вы думаете? Господи! Да ведь мой папаша потомственный почетный гражданин, орденов кавалер! Меня, ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что я ежели писарь, то уж и свинья?.. Пожалуйте еще стаканчик… шипучечки… Барб, лупи! Не стесняйся, за все можем заплатить. При современной образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идет на службу все равно как мужик. Я, ваше благородие, был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом… Везде выгоняли! Барб, лупи! Бери радужную, посылай за дюжинкой! Ваше благородие, стаканчик!
Вошла m-me Дуду, высокая полная дама с ястребиным лицом. За ней семенил Вронди, похожий на Оффенбаха. Немного погодя вошла и Бланш, маленькая брюнетка, лет 19-ти, со строгим лицом и с греческим носом, по-видимому, еврейка. Писарь выбросил еще одну радужную.
– Жарь на все! Жги! Позвольте мне эту вазу разбить! От чувств!
M-me Дуду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другие, она и сидеть бы им здесь не позволила.
От вина и соседства Бланш у поручика стала кружиться голова, и он забыл о писаре.
– Музыку! – кричал отчаянным голосом писарь. – Подавай музыку! На основании приказа за номером сто двадцатым предлагаю вам танцевать! Ти-ише! – продолжал орать во все горло писарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. – Ти-ише! Я желаю, чтоб танцевали! Вы должны мой характер уважить! Качучу! Качучу!
Барб и Бланш посоветовались с m-me Дуду, старик Вронди сел за пианино. Танец начался. Филенков, топая в такт ногами, следил за движениями четырех женских ног и ржал от удовольствия.
– Рви! Верно! Чувствуй! Отдирай, примерзло!
Немного погодя вся компания поехала в колясках в «Аркадию». Филенков ехал с Барб, поручик с Бланш, Вронди с m-me Дуду. В «Аркадии» заняли стол и потребовали ужин. Тут Филенков до того допился, что охрип и потерял способность махать руками. Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать:
– Кто я? Нешто я человек? Я ворона! Потомственный почетный гражданин… – передразнил он себя. – Ворона ты, а не гра… гражданин.
Поручик, отуманенный вином, почти не замечал его. Раз только, увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал:
– Ты, я вижу, позволяешь себе очень…
Но тотчас же потерял способность соображать и чокнулся с ним.
Из «Аркадии» поехали в Крестовский сад. Тут m-me Дуду простилась с молодежью, сказав, что она вполне надеется на порядочность мужчин, и уехала с Вронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликеров. Потом квасу, и водки, и зернистой икры. Писарь вымазал себе лицо икрой и сказал:
– Я теперь араб или вроде как бы нечистый дух.
На другой день утром поручик, чувствуя в голове свинец, а во рту жар и сухость, отправился к себе в канцелярию. Филенков сидел на своем месте в писарской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались… Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик, злой и не опохмелившийся, отвернулся и занялся своим делом. Минут десять длилось молчание, но вот глаза его встретились с мутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он все: красные занавесочки, раздирательный танец, «Аркадию», профиль Бланш…
– При всеобщей повинной военности… – забормотал Филенков, – когда даже… профессоров в солдаты берут… когда всех уравняли… и даже свобода гласности…
Поручик хотел распечь его, послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо:
– А ну тебя к черту!
И вышел из канцелярии.
Кулачье гнездо
Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных, на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска «Трактир» и золотится на солнце нарисованный самовар. Вперемежку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров.
Майский полдень. В воздухе пахнет постными щами и самоварною гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубахе навыпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны тупая лень и равнодушие: будут ли наниматели или нет, для него решительно все равно. За ним шагают трое: рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка.
– Какие, однако, у вас дорогие дачи, – морщится инженер. – Все в четыреста да в триста рублей… ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевле.
– Есть и подешевле… Из дешевых только две остались… Пожалуйте!
Федоров ведет нанимателей через барский сад. Тут торчат пни да редеет жиденький ельник; уцелело одно только высокое дерево – это стройный старик тополь, пощаженный топором словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей, известки и гниющих бревен.
– Как все запущено! – говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши. – А где теперь ваш барин живет?
– Они не барин, а из купцов. В городе меблированные комнаты содержат… Пожалте-с!
Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными, окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка, переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись: «В сей обители мертвых заполучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фильдекосов».
– Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять, – обращается Федоров к инженеру.
– Почему?
– Нельзя-с. Здесь был склеп, господ хоронили. Ежели которую приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать.
– Какие новости! – ужасается тощая дама. – Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь! Не желаю жить с мертвецами!
– Мертвецы, барыня, не тронут-с. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат – господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фильдекосов жили и остались вполне довольны. Обещались и в этом году приехать, да вот что-то не едут.
– Он на самоубийство покушался? – спросил инженер, вспомнив о надписи на стене.
– А вы откуда знаете? Действительно, это было, сударь. И из-за чего-то вся канитель вышла! Не знал он, что тут под полом, царствие им небесное, покойники лежат, ну и вздумал, значит, раз ночью под половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску, да как увидал, что там гробы стоят, очумел. Выбежал наружу и давай выть. Всех дачников в сумление ввел. Потом чахнуть начал. Выехать не на что, а жить страшно. Под конец, сударь, не вытерпел, руку на себя наложил. Мое то счастье, что я с него вперед за дачу сто рублей взял, а то так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал да лечился, попривык… ничего… Опять обещался приехать: «Я, говорит, такие приключения смерть как люблю!» Чудак!
– Нет, уж вы нам другую дачу покажите.
– Извольте-с. Еще одна есть, только похуже-с.
Кузьма ведет дачников в сторону от усадьбы, к месту, где высится оборванная клуня… За клуней блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи.