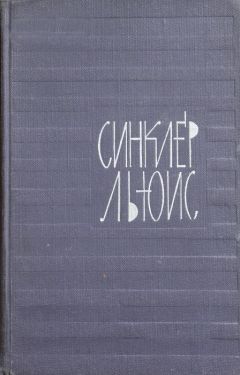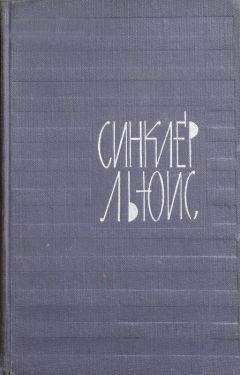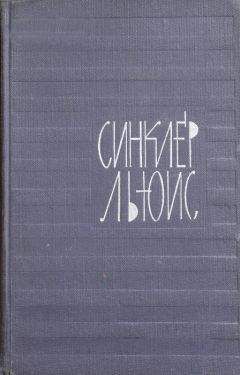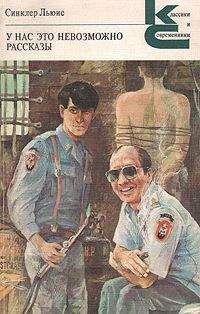Синклер Льюис - Элмер Гентри
— Придите! Придите же к нему! Быть может, странно, что именно я, величайший из грешников, посмел призывать вас к нему! Но господь всемогущ, и сладчайшая истина его глаголет устами младенцев и недостойнейших из недостойных. И вот уже сильный посрамлен, а слабый вознесен пред очи его!
Весь этот пышный набор из лексикона солнцепоклонников был знаком слушателям так же хорошо, как «здравствуйте» и «как поживаете», но он, по-видимому, сумел вложить в эти слова новую силу, ибо никто не подумал смеяться над его скороспелыми восторгами — напротив, все смотрели на него очень серьезно. И вдруг свершилось чудо.
Через десять минут после своего собственного обращения Элмер обратил на путь истинный свою первую заблудшую овцу.
Прыщавый юнец, известный завсегдатай и зазывала игорного дома, вскочил и, воскликнув «Господи, помилуй меня!», рванулся вперед с искаженной лоснящейся физиономией, лихорадочно расталкивая толпу, пробился к скамье кающихся грешников и упал на нее, содрогаясь от конвульсий. На губах его выступила пена.
И тогда дружный хор «аллилуйя» заглушил страстные речи Элмера, и Джадсон Робертс встал рядом с Элмером, обняв его за плечи, а мать Элмера опустилась на колени с просветленным, блаженным лицом, и собрание завершилось исступленным ревом:
Так позволь же прильнуть мне, о Боже,
К истекающей кровью груди…
Элмер чувствовал себя победителем и воплощением благочестия.
Правда, в своем увлечении он не замечал никого, кроме самых набожных, тех, кто пришел заблаговременно и занял первые ряды. Студенты, которые теснились все время в задних рядах, теперь высыпали оживленными группками на церковное крыльцо, и когда мимо прошли Элмер и его матушка, их провожали глазами и даже посмеивались им вслед. Элмера вдруг словно окатили холодной водой…
С трудом заставлял он себя прислушиваться к радостным причитаниям матери по дороге в ее гостиницу.
— Ты только, смотри, не вздумай вставать завтра чуть свет и провожать меня на вокзал, — лепетала она. — Мне ведь и нужно-то всего перенести чемоданчик через дорогу. А ты должен как следует выспаться после сегодняшней встряски… Ах, как я гордилась тобой! Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так страстно молился, как ты! Элми, ты будешь тверд? Ты так порадовал свою старуху мать! Всю жизнь я горевала, ждала, молилась — теперь мне больше не о чем горевать! Ты не отречешься, правда?
И он, с последней вспышкой прежнего воодушевления, звонко выкрикнул:
— Будь покойна, ма, конечно! — и поцеловал ее на прощание.
Ни следа не осталось в нем от былого подъема, когда он побрел один по улице под покровом морозной будничной ночи — и не вдоль светозарной колоннады, а просто мимо приземистых домишек, запорошенных тусклым снежком, неприветливо насупившихся под холодным и звездным небом.
План спасения Джима рухнул, образ Джима, поднявшего к небу умиленный и благоговейный взор, померк, сменившись образом совсем другого Джима: Джима с разгневанным взором и колючим, острым языком, — и по мере того, как бледнел придуманный им образ друга, гасло и воодушевление Элмера.
«А может, я просто свалял дурака? — размышлял он. — Ведь Джим предупреждал, что, если я потеряю голову, меня сцапают. Теперь, пожалуй, закуришь, так чего доброго, в ад угодишь.
А курить хотелось — и сию же минуту!»
Он закурил.
Однако и это помогло не слишком: тревога не унималась.
«Да, но ведь все же было без обмана! Я и вправду раскаивался во всех этих идиотских грехах. Даже вот папиросы — тоже брошу! Я на самом деле почувствовал эту, как ее… божью благодать.
…Только удержусь ли — вот загвоздка! Нет, это просто немыслимо, ей-богу! Ни тебе выпить, ни еще чего…»
«Интересно, а что, на меня, правда, снизошел святой дух? Но ведь факт, что я стал другим — я это ясно ощутил. Или это попросту мать с Джадсоном меня так накрутили и все эти праведники оглушили своими воплями?..
Джад Робертс — вот кто меня обработал. Наболтал, понимаешь — друг и брат, да еще силач… Ну, я уши и развесил. А сам наверняка пускает в ход этот приемчик повсюду, куда ни явится. Джим, пожалуй, скажет… А-а, к черту Джима! Что я, не имею права, что ли? Не его дело! Подумаешь — что, уж мне нельзя поступить прилично раз в жизни? А с каким почтением на меня все смотрели, когда я призывал ко Христу! Здорово это у меня получилось, и кстати паренек тот подвернулся, стал сразу каяться с места в карьер. Не всякому удается спасти заблудшую душу прямо тут же, как только он сам встал на праведный путь. Мало сказать — не всякому: никому! Я определенно побил все рекорды! Что ж, а, между прочим, может, они и правы… Может, бог и в самом деле имеет на меня какие-то особые виды, пусть я даже и не всегда вел себя как надо… в некотором смысле… Но я никогда не был подлецом или хулиганом… Так только — развлекался, и все…
Джим… а какое он имеет право меня учить, что надо, а что не надо? Его беда, что он возомнил, будто все знает лучше всех. А я лично думаю, эти лысые умники, что накатали столько книг про библию, надо полагать, побольше знают, чем какой-то там доморощенный агностик из Канзаса!
Да, вот так-то… Вся церковь — все до одного! Как меня слушали: точно я знаменитый на всю Америку проповедник!
Кстати, может, и не так уж плохо быть священником, особенно если большая церковь… Куда легче, чем копаться в делах да выступать в суде, и к тому же у противной стороны вполне может оказаться адвокат и поумней тебя.
Ну, а паства-то проглотит, что ни наплетешь ей с кафедры, и никаких тебе возражений или перекрестных допросов!»
Он фыркнул, но тотчас спохватился:
«Нехорошо так рассуждать! Если сам не поступаешь как надо, это еще не значит, что имеешь право издеваться над теми, кто живет по-хорошему, как вот священники, например… А Джим — он как раз этого не понимает.
Я-то, конечно, недостоин быть священником. Но только, если Джим Леффертс воображает, будто я побоюсь стать священником, оттого, что он там треплет языком… Я-то ведь знаю, какое это чувство, когда ты стоишь, а весь народ перед тобой гудит, ликует… И осенила меня благодать или нет — это тоже знаю один только я. Так что никакого Джима Леффертса мне для разъяснений не требуется».
И так он бродил целый час, не отдавая себе отчета, куда идет, то холодея от сомнений, словно от ледяного ветра, что гуляет по прерии, то вновь, как давеча, в церкви, загораясь — но ненадолго — и все время помня, что ему еще придется исповедаться перед неумолимым Джимом.
IV
Второй час ночи. Джим, конечно, уже заснул, ну а завтра, глядишь, и случится чудо. Утро — оно всегда сулит чудеса.
Затаив дыхание, он приоткрыл дверь. На умывальнике возле кровати Джима был виден свет. Ничего, это только керосиновый ночничок, да он еще и прикручен.
Элмер на цыпочках вошел в комнату, поскрипывая огромными башмачищами.
Внезапно Джим поднял голову с подушки, сел. Открутил фитиль на большой огонь. Нос и глаза у него были красные, в груди клокотал кашель. Он молча уставился на Элмера, и тот, застыв у стола, ответил ему таким же немигающим взглядом.
— Ну, не сукин ли сын! — резко произнес наконец Джим. — Добился-таки своего. Спасли! Дал себя околпачить! Заделался баптистским шаманом. Ну ладно, я умываю руки. Можешь катиться теперь… в рай!
— Нет, Джим, постой, послушай!
— Хватит, наслушался. Не о чем с тобой тут рассуждать! Теперь ты меня послушай. — И Джим, не переводя дыхания, минуты три объяснял Элмеру, кто он есть.
Почти всю ночь шло сражение за душу Элмера; Джим не потерпел поражения, но и не добился полной победы. Как раньше на молитвенном собрании между Элмером и проповедником, заслоняя видение креста, вставало лицо Джима, так теперь, смутные и печальные, маячили перед ним лица матери и Джадсона, и горячие слова Джима доходили до него как будто сквозь туманную завесу.
Проспав всего четыре часа, Элмер, спотыкаясь от усталости, отправился за булочками с корицей, сандвичами и кофе на завтрак Джиму. Затем, слово за слово, они заспорили снова; Джим — еще более настойчиво, Элмер — еще более раздраженно, как вдруг дверь распахнулась и к ним, в почтительном сопровождении дебелой квартирной хозяйки, вкатился не кто иной, как сам ректор, достопочтенный доктор Уиллоби Кворлс собственной персоной: козлиная бородка, белоснежная манишка, тугое брюшко под жилеткой.
Прочувствованно и многократно пожав руку Джиму и Элмеру, ректор движением бровей удалил из комнаты хозяйку и заговорил. Его гортанный голос опытного проповедника, нутряной, с растянутым «л» и раскатистым «р» — глубочайший, бухающий, как у филина, и вместе с тем елейно-проникновенный, как нельзя более подходил к этому храму, созданному им из этой обыкновенной комнаты лишь тем одним, что он в ней находился. Голос, полный укора джимам леффертсам, столь несерьезным и непочтительным, столь ребячески-циничным. Голос, напоминающий собою нечто среднее между вечерним колокольным звоном и утренним криком осла.