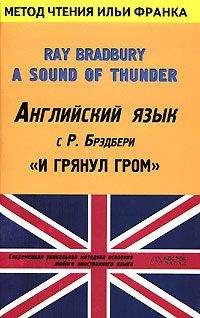Михаил Жванецкий - Собрание произведений в пяти томах. Том 3. Восьмидесятые
– Тихо, ты, не видишь тут!
– Что, что происходит, ребята?
А ничего не происходит.
Начальство ради тишины вообще жизнью жертвует. Им, если все тихо, – и премию дают, и всяческие надбавки. Это от них идет шипение: «Тсс-с! Тихо!» – и нам передается: «Тсс-с тихо, тихо чтоб!» Тихо – значит хорошо. Такой у них девиз. Поэтому им нравится кладбище. Поэтому они так любят чествовать покойников. А освети прожектором – все замашут: «Тсс-с, выключи! Тихо чтоб и темно...»
А теперь пришла пора объяснить иностранцам. Им надо сказать так: «Хмурость и мрачность свидетельствуют о надежде, овладевшей массами. В то время как веселье и хохот сообщают, что такой надежды больше нет!»
Это общие рассуждения к общей картине. А теперь КОНКРЕТНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ К ОБЩЕЙ КАРТИНЕ.
Вопрос: «Ребята! А может, в социализме еще можно что-то поискать?»
Ответ: «Это под кроватью можно что-то поискать. А в социализме мы уже все переискали».
Давайте в августе...
Вы не хоронили в августе в Одессе? Как? Вы не хоронили в августе в Одессе, в полдень, в жару? Ну, давайте сделаем это вместе. Попробуем – близкого человека. Давайте.
Мы с вами подъедем к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, мать их!..
Съезжаются пятнадцать – двадцать покойников с гостями сразу. Голая степь, поросшая могилами. Урожайный год. Плотность хорошая. Наш участок 208. Движемся далеко в поле. Там толпы в цветах. Все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах все давно приготовил... Ямки по ниточке раз-раз-раз. Сейчас он только подсыплет, подроет, задевая и разрушая собственную работу. У него в трибуне потрясающая рожа музыкального вида с длинными волосами. Лабух переработанный. Двумя движениями под оркестры вонзается в новое, руша старое, потом, жутко целясь, снова промахивается, завывая дизелем под оркестры. Дикая плотность. Их суют почти вертикально. Поют евангелисты. Высоко взвивают евреи. Из-за плотности мертвецов на квадратный метр – над каким-то евреем: «Товариши, дозвольте мени… тьфу, а де Григорий? Шо ж ви мене видштовхнули, товариши?»
Цветы, цветы затоптанные, растоптанные. Белые лица, черные костюмы, торчащие носки ботинок, крики:
– Ой, гиволт!
– Господи, душу его упокой!
– Дозвольте мени...
Хорошо видны четверо в клетчатом с веревками и лопатами. Их тащат от ямы к яме «Быстрей, быстрей, закопайте, это невыносимо». – «Сейчас, сейчас». – «Вначале веревки, потом лопаты». – «Где чей? Нет таблички. Где табличка?» – «Сойдите с моей могилы». – «А где мне встать, у меня нога не помещается…»
Веревки, лопаты. «Музыкант» выкапывает, они закапывают. Пять штук сразу. Между ними по оси икс – пятьдесят сантиметров, по оси игрек – двадцать пять. Много нас. Много. Пока еще живых больше. Но это пока, и это на поверхности. Четыре человека машут лопатами, как веслами. Мы им все время подвозим. Не расслабляться. Покойники снова в очередях. Уже стирается эта небольшая разница между живыми и мертвыми. Шеренги по веревке. Расстояние между бывшими людьми ноль пять метра, время – ноль пять минуты.
Крики, плачи, речи, гости, цветы, имена. На красный гроб прибивают черную крышку. «Ребята, это не наша крышка...» – «А где наша?..» – «Откуда мы знаем, где ваша?» – «Сема, держите рукой нашу крышку».
В этой тесноте над вашей ямой чужой плач.
– Он был в партии до последнего дня...
– Кто? Он никогда не был в партии. Если бы мы достали лекарство, он вообще бы жил. Цыпарин, цыпарин. Ему не хватило цыпарина.
– Операции они делают удачно, они выхаживать не могут.
– Зачем тогда эти удачные операции?
– Вы хотите, чтоб он хорошо оперировал и еще ночами ухаживал?
– Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил...
– Да скажите спасибо, что оперируют хорошо...
– За что спасибо, если я его хороню?!
– Это уже другой разговор.
– Он не хотел брать на себя. Он как чувствовал. А они ему все время: «Бери на себя... бери на себя». Он взял на себя. Теперь он здесь, а они в стороне.
– Теперь же инфаркт лечат...
– Инфаркт не лечат, его отмечают... Отметили – и живи, если выживаешь. Как он не хотел брать на себя. А они ему: «Мы приказываем – строй!» Он говорил: «Я не имею права». А они говорили: «Мы приказываем – строй!» Он построил, а когда приехала ревизия, они говорят: «Мы не приказывали». Теперь весь завод здесь.
– Куда вы сыпете наши цветы? Где он!.. Где Константин Дмитриевич?.. Константин Дмитриевич. О, вот это он... А-а... вот это он. Ой, Константин Дмитриевич, и при жизни я вас искал. Вечно вас ищешь, вечно...
– Господи, спаси и помилуй. Суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей, Господи.
– Товарищи, славный путь покойного отмечен почетными грамотами.
Тут закончили, там заплакали. Тут заплакали, там разошлись. Цветы, гробы, венки, ямы, плач, вой. «Беларусь» задними колесами в цветах.
– Товарищи, всех ногами к дороге!.. Значит, вынимайте и разворачивайте согласно постановлению горисполкома.
Черт его знает, чего больше – рождаются или умирают? Какое нам дело, если нас так хоронят?..
Население!
«Не смейте кушать, Мария Ивановна, это же колбаса для населения».
Сетевые сосиски, комковатые публичные макароны, бочковые народные пельмени, страна вечнозеленых помидоров, жидкого лука. «Для удобства пассажиров маршрут № 113 переносится. Для удобства покупателей магазин № 2 Плодоовощторга...»
А оперируют они хорошо, только очень непрерывно.
Так же, как и копают.
Мы им подносим – они закапывают. Свои своих. Без простоев. Огромное поле. Все ямы на одном пятачке, ибо… Ах, ибо!
Удобно экскаватору, копателям, конторе. Всем, кроме нас.
Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас.
Как наша смерть не нужна всем, кроме нас.
Как нас лечат?
Как мы умираем?
Как нас хоронят?
Что такое юмор?
Под давлением снаружи
юмор рождается внутри.
ПрохожийНе о себе. В защиту жанра. Сам стал слезлив и задумчив. Сам стал копаться в словах. Сам потерял жизнь и от этого – юмор. И, потеряв это все, расхаживая в поношенном пиджаке задрипанного философа, скажу: ничего нет лучше жизни. А юмор – это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искры в глазах. Это влюбленность в собеседника и готовность рассмеяться до слез.
Смех в наше время и в нашем месте вызывает зависть. «Что он сказал? Что он сказал?» Люди готовы идти пешком, ползти: «Что он сказал?» Можете плакать неделю, никто не спросит: «Что вам сказали?» Плачущий в наше время и в нашем месте при таком качестве сложных бытовых приборов, повышении цен и потоке новостей не вызывает интереса.
Плачущий занимает более высокое положение, чем хохочущий. Это обычно министр, директор, главный инженер. Хохочущего милиционера не видел никто.
Юмор – это жизнь обычных людей. Чем меньше пост, тем громче хохот, и прохожие с завистью: «Что он сказал? Что он сказал?»
Господи, какое счастье говорить, что думаешь, и смеяться от этого.
– Что он там сказал? – все время спрашивают сверху.
– А ничего. Мы так и не поняли.
– А чего ж вы так смеетесь?
– А от глупости.
– А где он? Мы ему ничего не сделаем. Обязательно скажите, где он. Где он – это самое главное.
– А вот он.
– Где?
– Вот, вот. Только что был и что-то сказал. Да так ли важно, кто сказал, важно, что сказал.
– Нет, товарищи, для нас важно, кто сказал и что он еще собирается сказать. Его творческие планы. Это особенно важно. Если кто-нибудь его встретит, позвоните, пожалуйста, в районное отделение культуры в любое время суток – мы тоже хотим посмеяться.
Опять хохот.
– А вы почему смеетесь? А как вообще сочиняются анекдоты? Не может быть, чтоб все сочиняли, должен быть автор. Друзья, если кто-нибудь его случайно встретит, позвоните, пожалуйста...
Почему же плач не вызывает такого беспокойства? Почему величайшие трагедии величайших писателей не вызывают такого ищущего интереса? Почему «Двенадцать стульев» не выходило, не выходило, пока не вышло? И «Мастер и Маргарита», и Зощенко? И хватит ханжить. «Двенадцать стульев» никак не меньше для нормального человека, чем «Анна Каренина», а «Мастер и Маргарита» – чем «Война и мир».
Юмор, как жизнь, быстротечен и уникален. Только один раз так можно сказать. Один раз можно ужать истину до размеров формулы, а формулу – до размеров остроты.
Юмор – это не шутки. Это не слова. Это не поскользнувшаяся старушка. Юмор – это даже не Чаплин. Юмор – это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно. И ты весело открываешь законы, по которым ходят люди. Юмор – это достояние низов.
Ползя наверх, наш соученик выползает из юмора, как из штанов. Чего ему смеяться там, у него же нет специальности, и первый же приказ трудоустроить по профессии ставит его на грань самоубийства.
А если уж очень большой, еще осторожнее: «Им только улыбнись – сразу что-то попросят. Улыбнулся – квартиру дай, засмеялся – дочь пропиши». И, теряя юмор, друзей, любимых женщин, человек растет в должности. Развалюченная секретарша, завалюченная жена и большие подозрения, что смеются над ним, и хотя его никто не называет, но в нем появляется интуиция волка и такой же мрачный, полуприкрытый взгляд.