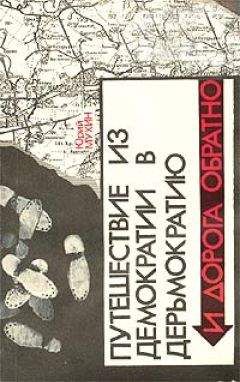Дитрих Киттнер - Когда-то был человеком
Великолепная сенсация. «Киттнер против Альбрехта – 1:0» – такой заголовок украшал первую страницу утренней газеты, на фотографиях Альбрехт вы глядел озадаченным, а Киттнер – радостным, каким уже давно не был. Мы получили бессчетное числе писем с поздравлениями. Совершенно посторонние люди не скрывали радости, что наконец-то и высокопоставленным господам был дан отпор.
Даже телевидение решило посвятить этому событию небольшой сюжет. Но тут сразу же возник очередной скандал. Наряду с короткими заявлениями по оводу исхода процесса режиссер пожелал оживить передачу на политико-юридическую тему тридцатисекундной сатирической сценой: в конце концов я ведь был не только выигравшей стороной, но и кабаретистом.
Я сочинил миниатюру, точно уложившись в отведенное мне время. Она была записана на пленку, однако на другой день вечером – буквально за несколько секунд до начала передачи – ее вырезали из фильма. Цензор не счел даже необходимым поставить в известность режиссера, находившегося от него двумя комнатами дальше. Отвергнутый цензурой текст был кратким:
«Ганновер. После поражения, которое потерпел в административном суде Ганновера кабинет Альбрехта против кабаре Киттнера, представитель земельного правительства заявил, что назрела настоятельная необходимость передать административные суды в частный сектор».
«Приватизация» некоторых государственных отраслей, таких, как радиостанции, больницы, детские сады (может, еще и бундесвер?), уборка мусора, была любимой идеей правительства Альбрехта. А с любимыми идеями главы правительства шутки плохи. Во всяком случае, по телевидению.
Напротив, в том же фильме министру Пестелю цензура позволила острить: он, дескать, отказал Киттнеру в дотации, поскольку «хотел подчеркнуть его независимый статус». Вероятно, министр буквально воспринимал поговорку: «Чей хлеб ем, того песни и пою». Ведь он сам, будучи беспартийным, вошел в кабинет Альбрехта, чтобы вскоре после этого стать членом ХДС: частенько о других судят по себе. А затем господин профессор заговорил откровенно. На традиционный последний вопрос, не может ли, по его мнению, «кабаре представлять опасность для государства или политического курса», министр заявил:
«Я думаю, да. В истории уже бывали примеры… Но ведь может случиться так – и это более вероятно, – что опасность будет угрожать самому кабаретисту…» И после небольшого раздумья: «Разумеется, не в нашем государстве…»
Первое предложение надлежит расценивать как комплимент. Второе является неприкрытой угрозой, добавление – лишь вялая попытка загладить откровенное и поспешное высказывание.
Когда Пестель некоторое время спустя ушел в отставку, он на вопрос одного из журналистов подчеркнул, что его уход из правительства ни в коем случае не связан с «делом Киттнера». Его шеф Альбрехт, подвергнутый резкой критике за свое вмешательство (новый министр по делам искусства имел тоже чисто номинальную власть), тут же заявил: «В отношении к театру Киттнера ничего не изменится».
Он знал, что говорил. В конце концов он выбрал преемника Пестеля на основании критериев, которые сформулировал так: «Он из Восточной Фрисландии и евангелического вероисповедания». Именно такого и не хватало в кабинете министров. К тому же он был еще и членом ХДС, а в науке и искусстве, по собственному признанию, ничего не смыслил.
Очевидно, нужно было поблагодарить премьер-министра за то, что министерство подало апелляцию из-за такой ничтожной суммы. Если судьи первой инстанции оказались не на высоте, то теперь высший административный суд земли, как они надеялись, закрепит за правительством его суверенное право на дискредитацию политических изгоев. Дело приобретало для правительства принципиальное значение: посмотрим, кто здесь хозяин. Это был вопрос престижа, И даже больше – чести.
Теперь дело уже вели не местные юристы министерства, как это принято в подобных случаях. В Ганновер был выписан высокооплачиваемый адвокат профессор Конрад Редекер, правовед из Бонна, один из толкователей и создателей административного права. Словом, один из некоронованных королей этой специальной юридической дисциплины.
Но он не мог быть одновременно и королем в области искусства, и потому его высказывания о кабаре сами по себе могли послужить материалом для кабаретиста. Дескать, отказ на выдачу дотации ни в коем случае не вызван политическими соображениями. Дело просто в том, что театр этот уникален, что создает некоторые трудности: власти, мол, не имея прецедентов не могут определить и размеров дотации. Таким (образом, получалось, что ТАБ вообще невозможно субсидировать.
Оценить уникальность такой логики – для этого у меня тоже нет ни критериев, ни прецедентов. Я тогда подавил в себе иронию и ответил на эту служебно-должностную глупость серьезно. Я попытался напомнить судьям, что уникальность или хотя бы стремление к ней является одним из существенных признаков искусства. Все остальное – в лучшем случае ремесленничество. Но не о нем идет речь в конституции, в ней однозначно говорится о «свободе искусства». Так, конфликт вокруг ТАБа, помимо государственных и юридических проблем, затронул и область философии и эстетики – хотя и на весьма невысоком уровне.
Третий громобойный аргумент министерства (в сжатом виде он сводился к формуле «мы вовсе не такие») позволял прийти к выводу, что министерство в глазах судей не хотело выглядеть гонителем прогрессивного искусства.
Редекер писал: «Он (министр) считает, что экспериментальные сцены и так называемые свободные труппы должны субсидироваться».
Все верно. И было бы еще замечательнее, если бы правительство и на деле придерживалось своих благородных намерений. Это порадовало многих моих коллег. И меня тоже, так как в оценках министра как в капле воды отражалась деятельность ТАБа: «Эти труппы видят свою задачу в том, чтобы давать возможность малоимущим слоям населения или тем, кто приемлет традиционного театра, лучше увидеть проблемы окружающего мира с помощью искусства», во-первых, ТАБ единственный среди ганноверских профессиональных театров с самого начала (помимо обычных скидок для учащихся и студентов) предоставлял ощутимые льготы для безработных, пенсионеров, учеников на предприятиях и других малоимущих групп населения. Во-вторых, один из проведенных опросов показал, что более половины нашей публики не ходило ни в какие другие театры, кроме ТАБа, то есть, отвергало традиционные театры. И, в-третьих, мое стремление, чтобы зрители, более половины которых составляла молодежь, лучше видели проблемы окружающего мира, тоже не подлежало сомнению. Ведь именно поэтому мне и швырнули в лицо отказ в четыре строчки.
Ошеломляющее совпадение между определением, данным властями, и реальным положением дел в ТАБе, видимо, бросилось в глаза и составителю министерской бумаги, и потому он добавил к сказанному: «Тексты (альтернативных сцен) Д. К. выходят при этом за рамки политических событий, они не ограничиваются только шаржированием и комментированием актуальной политики».
Гол в собственные ворота! Порывшись минут десять в своем архиве, я предъявляю суду рецензию из газеты «Кельнер штадт анцайгер», в которой говорится: «Искусные атаки Киттнера направлены отнюдь не против конкретных политических событий, которые и без того у всех на устах. Он метит выше: свою способность к имитации и перевоплощению он использует для того, чтобы выставлять напоказ перекосы в развитии нашей демократии». Это суждение созвучно моей теории кабаре. Я предъявил и другие рецензии, в которых содержались аналогичные выводы.
Дешевая попытка правительства сохранить либеральное обличье, несмотря на железную стену, которой оно отделило себя от ТАБа, обернулась для него бумерангом. После затянувшегося упорного молчания министр наконец перечислил условия, которым, по его словам, должен удовлетворять театр, претендующий на получение субсидий. Выходило, хотя он сам того не желал, что ТАБ полностью отвечает этим условиям.
Чрезвычайно благодарные за такое разъяснение, мы с нетерпением ожидали начала процесса верховного земельного суда, будучи уверенными в его исходе.
Ожидание тянулось два года. Билеты в ТАБ по-прежнему распродавались полностью, однако финансовый дефицит тоже не уменьшался. Учитывая, что спрос на билеты значительно превышал предложение – но не хотелось взвинчивать цены на них, – мы поняли, что у нас остается лишь один выход из тупика. Еще в 1978 году мы своими силами сделали первую пристройку (это обошлось нам в 30 тысяч марок), израсходовав на это последние сбережения, расширить еще больше помещение театра с технической точки зрения не составляло труда. Тогда мы могли бы увеличить вместимость зала на 20 процентов и вытащить себя наконец за волосы из экономической трясины. Не хватало только несчастных денег. Выявления на дотации земельным властям оставались без ответа.