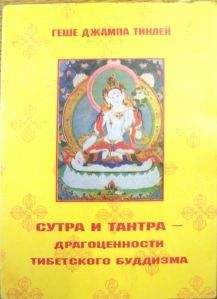Дмитрий Минаев - Поэты «Искры». Том 2
164–166. КОНКУРСНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ НА ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ[32]
1. ВО СНЕ
В полдневный жар на даче Безбородко
С «Беседой Русскою» лежал недвижно я.
Был полдень жгуч, струился воздух кротко,
Баюкая меня.
Лежал один под тенью я балкона,
Немая тишь сковала всё кругом,
И солнце жгло отвесно с небосклона —
И спал я мертвым сном.
И снилось мне — большое заседанье
Любителей Словесности в Москве,
В кафтанах, в охабнях — творящих заклинанье
Журналам на Неве.
Пред капищем славянских истуканов
Там Лонгинов могилу мрачно рыл:
Да лягут в ней Елагин, Селиванов —
Ликуй, славянофил!
Тогда зажглась в душе моей тревога,
И в полусне прозрела мысль моя,
И видел я, что за два некролога
Там в члены выбран я.
2. НАЯВУ
Я трепетал,
Как говорил,
Явившись в зал,
Славянофил.
Я изнывал
От ног до плеч,
Как он читал
Собратьям речь.
Я тосковал
И тер свой лоб,
Как он строгал
Европе гроб,
Как Запад клял,
И мудр и строг,
И прославлял
Один Восток.
И тех идей
Водоворот
В душе моей
Переворот
Тогда свершил,
К Москве свой взор
Я устремил,
Поддевку сшил
И стал с тех пор
Славянофил!
3. МОСКОВСКАЯ ЛЕГЕНДА XIX ВЕКА
Друг друга любили они с бескорыстием оба;
Казалось — любви бы хватило с избытком до гроба!
Он был Славянин — и носил кучерскую поддевку,
А ей сарафан заменял и корсет, и шнуровку.
То платье обоим казалось и краше, и проще,
И в нем они вместе гуляли по Марьиной роще.
Читал он ей Гегеля, песни Якушкина, сказки,
Цалуя то в губки, то в щечки, то в синие глазки.
И в ней развивал он вражду к молодым либералам,
К прогрессу, к Европе, ко всем не московским журналам.
Он ей по-французски болтать запретил совершенно,
И с ней о народности он говорил вдохновенно.
Суровый завет для нее был тяжелой веригой,
Но Кирша Данилов у ней был настольною книгой.
Так дни проходили — их счастье всё шире да шире,—
Казалось, четы нет блаженней, довольнее в мире.
Но счастья лучи не всегда одинаково жарки.
Ужасную весть от соседней болтуньи-кухарки
Узнал Славянин, весь исполнен грозы и испуга,
Что носит украдкой корсет с кринолином подруга!
Узнал — не спасла, не пошла, верно, впрок пропаганда,—
Что ночью Славянка… читает романы Жорж Занда.
Узнал он и, верный принци́пу московских собратий,
Любовь свою предал всей силе суровых проклятий.
Угрюмо и мрачно всегда проходил он Лубянкой,
Страшась повстречаться с коварною псевдославянкой.
Друг с другом навеки они так рассталися оба,
А счастья, казалось, обоим хватило б до гроба!
167. НАД УРНОЙ
Ах, неужель ты кинул свет,
Хозяин мой седой?
Таких людей уж больше нет
Под нашею луной.
Ты состояние с трудом
Всю жизнь свою копил,
У Покрова́ построил дом,
А в дом жильцов пустил.
С процентом скромным капитал
Пуская частно в рост,
Раз в год ты нищим помогал,
Ел постное весь пост.
Умел узнать ты стороной,
Кто деньги занимал,
И ежедневно на Сенной
Сам мясо покупал.
Хотя ты был не из числа
Чувствительных сердец,
Но от тебя не ведал зла
Домовый твой жилец.
До самой смерти неженат
И чужд семейных уз,
Носил ты ватошный халат
И плисовый картуз.
Ты сам себе приготовлял
Лукулловский обед:
Картофель с свеклою мешал
В роскошный винегрет.
Без темных дум, без тайных мук
Добрел до поздних лет;
Всегда с тобой был твой чубук
И вязаный кисет.
С чухонцем дворником был строг,
Журил его слегка;
Ходил ты изредка в раек
Смотреть «Жизнь игрока».
Порою, чтоб себя развлечь,
Ты почитать любил:
Тобой прочитан был весь Греч
И Зотов — Рафаил.
Я на потухший твой закат
Без слез смотреть не мог,
Как, сняв свой ватошный халат,
Ты в гроб сосновый лег.
С тех пор как ты покинул свет,
Я всё твержу с тоской:
«Таких людей уж больше нет
Под нашею луной!»
168. ПРОВИНЦИАЛЬНЫМ ФАМУСОВЫМ
Люди взгляда высшего,
Книг вы захотите ли!
Пусть для класса низшего
Пишут сочинители.
Для чего вам более
Всё людское знание?
Не того сословия —
Чтоб читать издания!
Нынче — травля славная,
Завтра — скачка тройками;
То обед, где — главное —
Угостят настойками.
То к родне отправишься,
С дворнею — мучение…
Ясно, что умаешься,—
Тут уж не до чтения.
Пусть зубрят приказные
Те статьи ученые,
Где идеи разные
Очень развращенные.
Мы ж, допив шампанское,
Спросим с удивлением:
Дело ли дворянское
Заниматься чтением?
169. ДЕТЯМ
Розги необходимы как энергические мотивы жизни.
П. ЮркевичРозог не бойтеся, дети!
Знайте — ученым игривым
Прутья ужасные эти
Названы жизни мотивом.
Пусть вырастают березы,
Гибкие отпрыски ивы,—
Вы, улыбаясь сквозь слезы,
Молвите — это мотивы!
Если ж случится вам ныне
С плачем снести наказанье —
Что ж? и мотивы Россини
Будят порою рыданья.
Дети! отрите же слезы!
Можете строгость снести вы:
Прежде терпели ж вы лозы,
Так и стерпите мотивы!..
170. ПРАЗДНАЯ СУЕТА
СТИХОТВОРЕНИЕ ВЕЛИКОСВЕТСКОГО ПОЭТА ГРАФА ЧУЖЕЗЕМЦЕВА
(Посвящается автору «La nuit de st.-Sylvestre»[33] и «Истории двух калош»)
(Перевод с французского)
Был век славный, золотой,
Век журнальной знати,
Все склонялись перед той
Силой нашей рати.
Всё вельможи, важный тон…
Но смещались краски —
И пошли со всех сторон
Мошки свистопляски.
Бородатый демократ
Норовит в Солоны;
Оскорбить, унизить рад
Светские салоны.
Грязь деревни, дымных сел
В повестях выводит,
Обличает кучу зол,
Гласность в моду вводит.
Свел с ума его — Прудон,
Чернышевский с Миллем,
А о нас повсюду он
Пишет грязным стилем.
А глядишь — о, века срам! —
Прогрессистов каста
Без перчаток по гостям
Ходит очень часто.
А глядишь — Прудона друг,
Сочиняя книжки,
Носит вытертый сюртук,
Грязные манишки.
Нас нигде он не щадит,
Отзываясь грубо,
Даже гения не чтит
Графа Соллогуба.
Им давно похоронен
Автор «Тарантаса»;
И не шлет ему поклон
Молодая раса.
Где же автор «Двух калош»
С грузом старой ноши?
Нет! теперь уж не найдешь
Ни одной калоши!
Что ж? быть может, Соллогуб
Уступил без бою?
Иль, как старый, мощный дуб,
Был спален грозою?
Нет, он в битвах не бывал,
Не угас в опале;
Но свой гений пробуждал
Вновь в «Пале-Рояле».
Что ж? быть может, наблюдал
Там он русских нравы
И себе приготовлял
Новый путь для славы?
Нет, ему российских муз
Лавры опостыли,
Он в Париже, как француз,
Ставил водевили.
Что ж? быть может, он стяжал
Лавры и на Сене
И Париж его встречал,
Павши на колени?
Нет, и там он как поэт
Не был запевала,
Хоть порой его куплет
Ригольбош певала…
Вот парадный, пышный зал,
Туш, финал из «Цампы»,
Кверху поднятый бокал,
Спичи, люстры, лампы,
И напудренный конгресс
Старичков зеленых,
И старушек — целый лес,
Пышных, набеленных,
Немец-гость, сказавший речь,
Звуки контрабаса
И маститый старец Г<реч>,
Автор «Тарантаса».
Дев прекрасных хоровод
В русских сарафанах
И гостей безмолвных взвод
Длинный на диванах.
На эстраде, все в цветах,
В виде панорамы,
С поздравленьем на устах
Дамы, дамы, дамы!
Всё вокруг стола, — гостям,
С гордостью сознанья,
За столом внимает сам
Президент собранья.
Тут парижский виц-поэт
С расстановкой, басом
Спел хозяину куплет
Вслед за контрабасом:
«Не умрешь ты никогда,—
Пел он в длинной оде,—
Ты последняя звезда
На туманном своде,
Ты живой уликой стал
Века чахлым детям…»
И пошел, и распевал,
Верен мыслям этим.
Пел поэт. Весь замер зал…
Стоя за эстрадой,
Я, как все, ему внимал
С тайною отрадой.
О поэт! Ты тот же был
На Неве, на Сене!
И я мысленно твердил:
«Bene, bene, bene!»[34]
В наш немой, пустынный век,
Век без идеала,
Ты единый человек
Старого закала!
171. <РАЗГОВОР ТРЕХ ТЕНЕЙ>