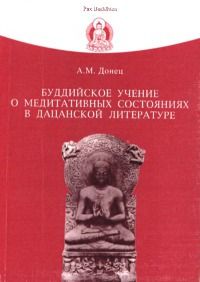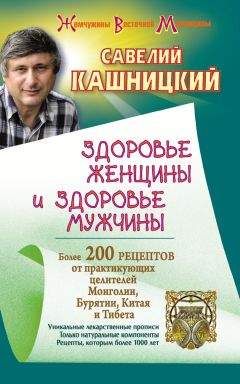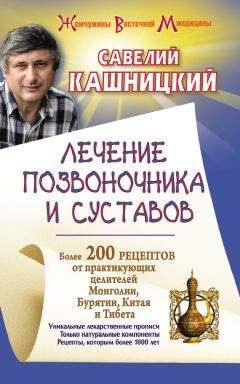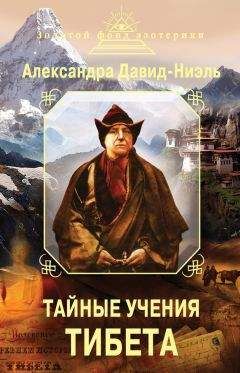Йозеф Шкворецкий - Львенок
— Я воспринимаю подобные вещи буквально.
Я опять опустил голову, потом поднял ее и взглянул на свою кофейную розу.
— Вы же сами пригласили меня наверх, — напомнил я. — Я все размышляю об этом. И не понимаю. Ничего не понимаю. Ведь если вы позвали меня сюда, то… не можете же вы быть настолько добродетельны! Вы должны были понимать, что… что кофе — это просто метафора. А если вы не настолько добродетельны, то мне остается только считать вас глупышкой.
— Наверное, вы правы, — сказала барышня Серебряная так, словно уже умерла. — Конечно, я должна была знать… но я… я отчего-то… ладно, не будем об этом. Вы уже можете встать?
Я попробовал. Итак, вот она — самая последняя точка за всеми точками. Встать у меня получилось, хотя и кое-как. Я простонал:
— Ну вы мне и врезали!
— Может, в следующий раз вы с собой совладаете.
— В следующий раз?
— Я имею в виду — с кем-нибудь другим.
У нее был фантастический талант ставить после каждой отчетливой точки еще одну, причем куда более отчетливую.
— С кем-нибудь другим?
— Да. С кем-нибудь другим.
Безграничный талант. Она подошла к двери и приоткрыла ее. Я превозмог боль и сделал жалостное лицо.
— Я живу на свете тридцать два года, но ни разу не встречал такой, как вы… Вряд ли у кого-нибудь другого есть шанс войти в мою жизнь. Боюсь, барышня, мой случай — классический.
Но барышню Серебряную, прелестную барышню, сотканную из роз и нежной глади вод, мои слова абсолютно не тронули.
— А вы еще не жили. Вы только наслаждались жизнью, — почти прошептала она.
И распахнула дверь настежь.
Кот помчался на лестничную площадку, но тут же нерешительно замер. Задрал хвост, в полумраке забелел его задик.
— Феликс, домой! — прикрикнула на него Серебряная и протянула мне руку: — Прощайте!
Я пожал ее и произнес печально:
— Прощайте.
— Не хочу вас обижать, но… — она выдержала паузу. — Но прощайте.
Что ж, значит так.
Кот с виноватым видом пробежал мимо нас обратно в комнату. Боль опять усилилась, я понял, что мне придется сесть. Я шагнул на лестничную площадку. Дверь за мной захлопнулась. Я спустился этажом ниже и там в темноте плюхнулся на ступеньку.
Я провел так добрых полчаса, ожидая, когда боль утихнет. Потом я встал и покинул этот дом. На улице я поглядел вверх, на ее окно. В нем, подобная ледяной дарохранительнице, отражалась луна, а в ее середине слабенько горела настольная лампочка. Саксофон все так же трубил из окна напротив.
Я сунул ключик в дверцу «фелиции», но сердце внезапно страстно возжелало хоть какого-нибудь целебного пластыря. Вера! Я вытащил ключик и направился к Вериному обиталищу. Вечер после дождя был теплым, приветливым; к Нусельской лестнице прошла компания парней и девушек с гитарой.
Мною овладела почти физическая потребность отомстить кому-нибудь. Попытаться убедить себя, что мир совершенно нормален и что ненормальна в нем только барышня Серебряная. Вера примет меня, ее вчерашние пощечины — всего лишь прошлогодний снег, они ничего не стоят. Я снова помирюсь с ней и снова пошлю ее к черту. Как только смогу убедиться, что мир вокруг не изменился.
И я в этом убедился. Когда я уже почти достиг дома брошенной деятельницы искусств, к ее подъезду подплыл сияющий «мерседес» режиссера Геллена. Из него вышла Вера, совершенно эмансипированная, сбросившая с себя оковы грустных вязальных спиц, в травянисто-зеленом, прошитом серебряными нитями коротком вечернем платье, с декольте, украшенном поблескивающей бижутерией, в золотых туфельках, купленных ценой многих скудных ужинов, которые состояли только из кофе и хлеба. Она простучала каблуками по асфальту — и тут заметила меня. Я открыл рот, но сказать ничего не успел. Режиссер Геллен просеменил мимо радиатора и, не обращая внимания ни на что вокруг, последовал за Верой. Вера молча потупилась и отперла подъезд. Я захлопнул рот. Вера вошла в дом, режиссер деловито шагнул туда же. В замке скрипнул ключ.
Я обратился в жену Лота. Еще одна компания с гитарами:
— Рок! Криминальный рок!
Во дела-то, кругом в дураках остался, сказал я себе обиженно.
Потом я вернулся к «фелиции» и поехал в Дом кино, где меня радостно приветствовал Крута, жаждущий новостей о моем разгроме. С ним и с выпивкой я просидел за столиком до раннего утра; затем погрустил на парковой скамейке на Славянском острове, а оттуда отправился прямиком в редакцию.
Глава одиннадцатая
Пылкое лето
Днем позже, после работы, когда я добрался до дома с мыслью немедленно лечь, меня ждал приятный сюрприз: повестка, в которой сообщалось, что мне предоставляется замечательная возможность провести лето в Медзигоренеце на внеочередных двухмесячных военных сборах. Я раздраженно швырнул бумажку в мусорную корзину и пошел спать.
Корзина не спасла. Через неделю поезд мчал меня, раздраженного сверх всякой меры, в Медзигоренец.
За всю эту неделю мне так и не удалось поговорить с барышней Серебряной. В понедельник после моего громкого фиаско на улице Девятнадцатого ноября она уехала-таки в отложенную на время командировку в Либерец и вернулась только вечером в субботу. Вернее, должна была вернуться. Я встречал либерецкий поезд, но вихрастой черной головки не заметил. С ночным поездом она тоже не приехала. А в четыре утра я отправился в Медзигоренец.
В редакции эта неделя прошла относительно спокойно, то есть привычно-рутинно. В основном разбирались с мелкими неприятностями. Во вторник мы были в типографии, выстригали из книги любовной средневековой лирики изображение слишком толстой обнаженной женщины, про которую товарищ Крал сказал, что она не должна попасться на глаза читателям. Тираж был небольшой, так что мы управились за один день. Картинку следовало резать вплотную к корешку, но так, чтобы не рассыпалась вся тетрадка; в работе принимал участие даже сам шеф, а ставших ненужными голых теток увозил в макулатуру какой-то работник типографии. Потом выяснилось, что он вовсе не из типографии.
Когда через два дня я, торопясь, взял такси, картинка уже красовалась у водителя на приборном щитке, рядом с Мэрилин Монро, слегка прикрытая прейскурантом.
В среду шеф созвал внеочередной совет, на который были приглашены я, Пецакова и доктор Эрлихова, редактировавшая у нас разговорники. Как выяснилось, не слишком усердно. В книге «Захватим голландский язык в дорогу» она пропустила фразу: «В качестве отголоска прежнего двойственного числа в современном голландском языке сохранилось несколько слов, склоняющихся по особым правилам, например, теленок, скот и народ». Фразу заметила цензура, и шеф обвинил Эрлихову в незнании азов редакторской профессии. Напрасно ученая коллега пыталась обороняться несколькими голландскими грамматиками, изданными в разных университетах. Шеф собственноручно вычеркнул красным карандашом слово «народ» и отпустил доктора Эрлихову, пригрозив напоследок перевести ее за подобное невнимание в корректоры. Доктор Эрлихова ушла, за толстыми стеклами ее очков дрожали слезы, а шеф, тоже чуть не плача, добрых полчаса жаловался нам на легкомысленных молодых специалистов, которые явились сюда прямо со студенческой скамьи и с которыми Бог знает что стало бы, не будь с ними рядом шефа. Мы и не спорили.
Его правоту подтвердил следующий же день, четверг, когда проштрафилась Даша Блюменфельдова. Ее допрашивали в полиции, потому что при ревизии в букинистическом магазине выяснилось, что некая Блюменфельдова продала туда редкий словарь английского языка за 250 крон и тут же опять купила за 300, чтобы принести его в наше издательство. Блюменфельдова всю эту аферу объяснила следующим образом: словарь она увидела у своего дядюшки Фойерштейна, пенсионера, бывшего фабриканта, и, зная, что нашей редакции словарь нужен, в интересах дела проявила смекалку, потому что покупать книги у частных лиц редакции было запрещено. Она заплатила немощному дядюшке двести пятьдесят крон из своего кармана, продала словарь в букинистический и немедленно выкупила его обратно за три сотни, которые ей и вернули по чеку в редакционной бухгалтерии. Сыщики долго ломали себе над этим голову, и Даше стоило больших усилий рассеять их подозрения и объяснить, что на этой операции не обогатились ни она, ни ее дядюшка; короче, все вроде бы закончилось благополучно. Однако Даша была верна себе. Она не смогла промолчать и язвительно заявила, что обокрали тут только государство. Сыщики замерли в дверях, и карусель перекрестного допроса завертелась с новой силой. Блюменфельдову теперь подозревали в еще большем преступлении, чем раньше, и прошло целых два часа, прежде чем ей вновь удалось очиститься. Если бы редакция могла купить словарь непосредственно у старого Фойерштейна, неустанно объясняла она, государственной казне это обошлось бы в двести пятьдесят крон. И хотя букинистический заработал на Фойерштейне пятьдесят крон, заплатила их наша бухгалтерия, так что в итоге букинистический заработал на нашем издательстве: следовательно, с экономической точки зрения эти пятьдесят крон попросту перекочевали из одного государственного кармана в другой. Наконец один из следователей, замороченный сложной логикой происшедшего, решил, что эти пятьдесят крон спер у государства старик Фойерштейн, и потребовал призвать его к ответу. Аргументировал он это тем, что если бы Фойерштейн продал словарь в букинистический за двести крон, то букинистический смог бы продать его нашему издательству за двести пятьдесят, то есть за ту сумму, которую и намеревался запрашивать с издательства Фойерштейн — в том случае, если бы можно было продать книгу напрямую. Сыщик никак не мог понять, в чем тут логическая ошибка, и Блюменфельдова скорее просто заговорила ему зубы, чем убедила.