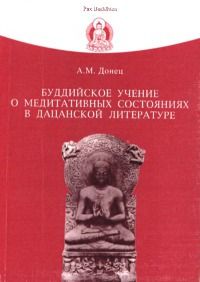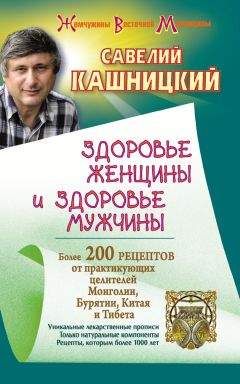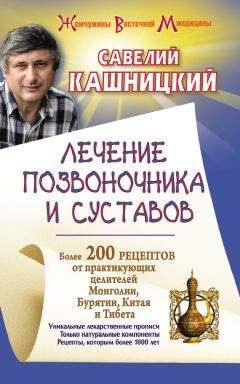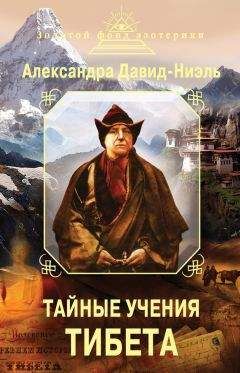Йозеф Шкворецкий - Львенок
— Ловко вы мета провели.
— Я?
— Да, вы. Я поверил, что вы уехали в Либерец, а вы тем временем развлекались с Вашеком на гимнастике.
— Не могла же я догадаться, что вы туда не пойдете.
— Могли. Вы же знали, что я думал, что вас там не будет.
Какое-то время она молчала.
— Вы отдали свой билет Вере, да? — спросила она затем.
Я глянул прямо в антрацитовые глаза.
— Да. Чтобы ее утешил Вашек. И у меня получилось. Теперь я свободен.
Розовые губы барышни Серебряной сложились в некое подобие усмешки.
— Что ж, поздравляю.
— А Вашек теперь занят, — сказал я. — Он вас больше не любит. Он Веру любит. Так что вы тоже свободны.
— Вот как?
— Во всяком случае мне так кажется, — быстро добавил я. — Я ведь не слишком много о вас знаю.
— Сейчас речь не о том. Значит, по-вашему, профессор Жамберк больше меня не любит?
— Конечно, нет. Вера лишила его невинности.
Барышня Серебряная задумалась, засмотрелась на трепетавшие над зеленым газоном пестрые флажки.
— И при чем же здесь любовь? — спросила она как бы про себя.
Я поспешил выложить свое объяснение:
— У экземпляров типа Вашека Жамберка очень даже причем! Такие, как он, вечно путают с любовью свои подавленные желания. Поэтому они влюбляются в первого попавшегося — того, кто помог им избавиться от этих мучений.
— Какая примитивная теория.
— Подтвержденная столь же примитивной практикой.
На этот раз она усмехнулась уже совершенно откровенно.
— Не исключено, что вам придется выдумать что-то более сложное. Я про теорию.
— Ну, при наличии более сложной практики…
Барышня Серебряная, сощурившись, посмотрела сквозь стеклянную стену ресторана на часы на башне выставочного комплекса.
— Это занятие, — сообщила она, — имеет свою специфику. Практика тут только мешает. Наибольшего успеха на поприще любви добиваются те, кто вообще далек от всякой практики.
Я попробовал соорудить на скорую руку какой-нибудь остроумный ответ, но тут вернулся лучший друг зверей, предусмотрительно захвативший сразу две поллитровые кружки. Как только он сел на свое место, какой-то заблудившийся щенок спутал его штанину с фонарным столбом. Щенка схватили в охапку и накормили капустой. Барышня Серебряная больше не обращала на меня никакого внимания.
После обеда программа пошла своим чередом. Барышня Серебряная по-прежнему стучала на машинке, переносила с места на место документы, ласково беседовала с собаковладельцами и позировала для серии «Красавица и зверь». В четыре часа все это закончилось, и толстяк через мегафон пригласил всех присутствующих на соревнования борзых, которым вот-вот будет дан старт.
Барышня Серебряная сложила свои причиндалы и скрылась в палатке. Когда она вынырнула оттуда, я подошел к ней.
— Вы уже освободились?
— Нет, — сказала она. — Я член жюри в гонке за зайцем.
— За кем?
— Борзые гонят зайца.
— А я не могу поучаствовать?
Она посмотрела на меня с брезгливостью.
— Господин редактор, ваше остроумие несколько однообразно.
— Вы так полагаете?
— Полагаю.
— Плохо, — сказал я. — Послушайте, неужели я вам настолько неприятен?
Она опустила голову. Стояла, расковыривала высоким каблучком норку какого-то суслика; ветер лепил платье к ее ногам. Потом взглянула мне в глаза.
— Вы были бы не вы, если бы уступили.
— О чем вы?
Она вскинула брови и вздохнула.
— Вы прекрасно знаете, о чем. Я это уже говорила, и не раз. Я ведь не желаю вам зла, господин редактор. Оставьте всякую надежду, хорошо?
— Вы говорите, как Данте, барышня.
— Я говорю, как Ленка Серебряная, — отрезала она. — Не знаю, что на эту тему написал Данте, но я говорю то, что думаю, ясно?
— Данте написал об этом целую книгу, — сказал я. — Она называется «Ад».
Ленка опять принялась расковыривать каблуком норку.
— Я плохо образована, — проговорила она. — Но насколько мне известно, это одно из величайших литературных произведений всех времен. А ваш ад, господин редактор, совсем маленький, крохотный… если, конечно, он вообще существует.
— Но он обжигает, — сказал я.
Она снова посмотрела мне в глаза.
— Может, вы это заслужили, а?
А потом отвернулась и, похожая на розово-белого фламинго, зашагала прочь.
Она опять сидела за машинкой, а машинка стояла на столике на крутом пригорке, где у борзых был финиш. Толстяк отвечал за механизм, тянувший зайца. Когда выбежала первая собачья пятерка, солнце скрылось за тучей. Борзые неслись по длинной узкой парковой просеке за куском кроличьей шкуры, привязанной к длиннющей проволоке. На них были красные, белые и клетчатые жилетики с номерами, и они мчались за этим псевдозайцем так, как будто спасали собственные жизни. В конце проволоки стояла барышня Серебряная с ручкой и блокнотом, и во внезапном полумраке, обрушившемся на парк из черной тучи, ее бело-розовое платье сияло ярче прежнего. Потом вместе с мужиком в латаных штанах она тащила «зайца» обратно к старту. Поредевшая толпа, окружавшая место соревнований, внимательно следила за ней. Я услышал несколько замечаний, отпущенных стилягами, отчего-то не поехавшими на пляж в Медник, а пришедшими сюда.
И опять выбежали борзые, и опять они догоняли фальшивого зайца, а барышня Серебряная стояла на пригорке, напоминая холодный факел.
Когда бежала предпоследняя группа, начали падать первые капли дождя.
С веранды ресторана я наблюдал за палаткой, где любители животных прятались от ливня. В ресторане я повстречал Мирослава Круту, который зря прождал какую-то девицу, назначившую ему свидание в парке, и теперь развлекал меня рассказами о своем гареме. Перед рестораном стояла его машина. Я не слушал и не спускал глаз с белой палатки.
Примерно в полседьмого оттуда выскочила барышня Серебряная, а за ней — знакомый мне толстяк. Он бесстрашно продвигался вперед, подняв вортник пиджака, а Ленка прикрывала голову какой-то папочкой.
— Мирек, ты мне друг? — ворвался я в бесконечный отчет приятеля и, не дав ему ответить утвердительно, принялся ныть: — Мне нужна машина. На сегодняшний вечер. Это вопрос жизни и смерти.
Опытный взгляд Круты выхватил из пейзажа мокнущую барышню Серебряную.
— Вот эта вот мокрая, розовая, да?
— Да. На два-три часа. Ну очень нужно.
Когда речь шла о заговоре против женщин, на Круту всегда можно было положиться. В подобных ситуациях он уже несколько раз одалживал мне машину, а на то, что его девушка придет на свидание с трехчасовым опозданием, надежд было мало. Он извлек из кармана ключи и с ухмылкой протянул их мне.
— Если не выгорит, я до одиннадцати в Доме кино, — сказал он. — Или утром ко мне на квартиру. Только уж, пожалуйста, без аварий, а то больно ты сейчас опьянен любовью.
Я элегантно подкатил сзади под самый бок барышни Серебряной и открыл дверцу.
— Садитесь. Господин Бартош, вы тоже. Назад.
Взгляд, который она бросила на меня из-под папки, был не очень-то любезным, но зато толстяк принял приглашение с искренней благодарностью. Он с трудом перебрался через опущенное переднее сиденье «фелиции» и уселся сзади, упершись головой в полотняную крышу, так что на ней сразу вскочила шишка. Барышня Серебряная запрыгнула на сиденье рядом со мной и захлопнула дверцу.
Наш спутник считал своим долгом вести беседу.
— У вас хорошая машина.
— Это не моя, — признался я. — Я ее одолжил, когда увидел, как вы мокнете. Куда едем?
— Только до Карлина, — сказал толстяк и начал посвящать меня в подробности ездовых навыков различных животных.
Барышня Серебряная молчала. На лобовом стекле расплывались большие капли, но «дворники» аккуратно протирали мокрый и серый мир; через это безостановочно вытираемое стекло он казался немного радостнее. По улицам брели воскресные толпы, в основном люди были без зонтиков и плащей, хихикающие девицы с кофточками на головах, парни в пестрых рубашках, героически презирающие собственную мокрость. Барышня Серебряная все молчала. Я тоже.
Я обратился к ней только тогда, когда мы высадили толстяка на загазованной улице Карлина.
— Вы не сердитесь?
— Нет. Спасибо, что подвезли.
Я хотел сказать что-нибудь остроумное, но проглотил не только первую остроту, что пришла мне в голову, а даже и вторую с третьей. Мои остроты на барышню Серебряную не действовали. Мы проехали под жижковским виадуком, миновали Центральный вокзал. На перекрестке возле Музея я спросил у нее:
— Можно, я приглашу вас сегодня на ужин?
— Нет, пожалуйста, не надо. Отвезите меня домой, я устала.
Что ж, ладно. Попробуем иначе. Мы молчали. Дождь усилился. У Ботанического сада он приобрел прямо-таки тропические масштабы. И выбивал красивую дробь по полотняной крыше «фелиции».