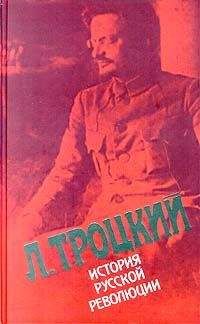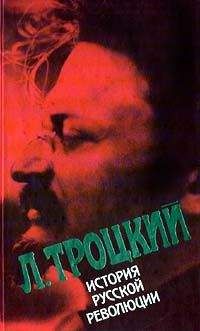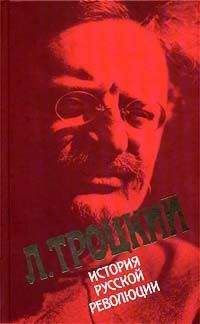Борис Мирский - Сатирическая история от Рюрика до Революции
Но сметливый ум сибиряка подсказал блестящий выход, и, подойдя к дверям, Распутин подозвал к себе хозяйку салона:
– Одевайся, старуха. В баню едем.
Именно с этого момента и началась блестящая карьера Распутина. Уже чудились ему возмущенные крики гостей, уже заранее краснела щека от удара, и с трепетом ждал он минуты, когда, найдеточку опоры в холодных камнях тротуара, он поднимется с четверенек и стрелой помчится в свою комнатку… Но произошло неожиданное:
– В баню? – переспросила хозяйка. – Сию минуту, Григорий Ефимович…
И уже в прихожей услышал он только завистливый шепот из зала:
– Счастливица… Счастливица…
А когда садились в карету, старый лакей почтительно спросил хозяйку салона:
– Так и прикажете доложить графу?
– Так и скажи: в баню. Очистит грехи, мол, и приедет.
С этого вечера прошло три месяца, а великосветские дамы оказались столь погрязшими в грехах, что очистка их не прекращалась даже в двунадесятые праздники.
Приходили очищаться целыми семьями и поколениями.
Престарелые бабушки вели за руки юных внучек, и популярность Распутина росла.
– Там какая-то барыня вас спрашивает, – докладывала Распутину прислуга. – Впустить?
– А чего ей надо?
– У меня, говорит, время от пяти до семи свободно, так я, говорит, очиститься заехала, да поскорее, а то внизу мотор дожидается.
– А какая она из себя?
– Старая, да прыща на ней много.
– Гони, – отбивался усталый Распутин. – скажи, что, мол, безгрешная она. Пусть нагрешит, а потом уж и лезет.
Тогда стали записываться. Не помогло и это. Распутин пожелал исключительной клиентуры и сурово заявил очищаемой от грехов баронессе:
– Слышь, Пашка, хочу, чтобы в самые верха попасть. Вези меня прямо во дворец!
Так как Распутин грозил забастовать, его повезли.
Около первого же светского генерала Распутин немного оробел.
– А ты не пальцимейстер будешь? – дипломатически спросил он.
– Выше, – огрызнулся генерал.
– Так, так…
Сначала Распутин хотел отойти, но те, кто уже узнал путь к доверию, никогда не откажутся от этого пути, и Распутин прибег к способу, однажды сделавшему ему карьеру: он пальцем подозвал генерала и решительно сказал ему:
– Пойдем в баню!
Генерал не пошел, но это предложение было настолько неожиданным для светских кругов, что за Распутиным сразу установилась репутация необычайно оригинального человека.
Через два дня после пребывания в высших сферах Распутину понадобились два рубля на новые портянки. Попробовал попросить у швейцара, но тот, не учтя возможной карьеры просителя, отказал, ссылаясь на семейные издержки.
– Подавишься потом своими двумя рублями! – высказал вслух Распутин внезапно пришедшее желание.
– Да ну? – иронически отозвался швейцар. – Голос, что ли, тебе был, что подавлюсь?
– Голос? – переспросил Распутин и вдруг радостно схватил швейцара за руку: – Выручил, миляга, просто выручил…
Не прошло и трех минут, как Распутин стоял перед пухлой дамой и сурово твердил:
– Голос мне был, Аннушка… Ступай, мол, вот к тебе и скажи, чтобы дала три рубля.
– Голос? – робко переспросила пухлая дама.
– Ага. Он, – подтвердил Распутин.
– Может, больше, Григорий Ефимович? – удивилась скромности внутреннего голоса пухлая дама.
– Это ты верно, – пророчески бросил Распутин, – два голоса было: один говорит, попроси три рубля, а другой говорит – проси все семь с полтиной.
С этого дня мистический голос окончательно завладел Распутиным. Целый день он не давал ему покоя.
– Вы что, Григорий Ефимович?
– Да вот голос сейчас был. Кого, говорит, первого встретишь, тот тебе две бутылки коньяку и сапоги новые пришлет на дом.
– Вам на Гороховую можно послать?
– А хоть и туда, сынок. Дар все равно даром останется, куда его ни пошли.
Странный голос быстро устроил все личные дела Распутина.
Не проходило и ночи, чтобы он не потребовал от и знакомых Григория Ефимовича чего-нибудь нового, начиная от трехрядной гармошки и кончая тридцатью тысячами на текущий счет…
Так началась карьера Распутина – о чем писать не позволяли.
Как она кончилась – это уже можно прочесть.
Я только дал необходимое вступление.
Вся правда о Распутине (И. Ковыль-Бобыль)
Часть I. Распутин: конокрад и хлыст
В тайге «с работы»
В расстоянии около пятисот верст от r. Сургута, густой девственной тайгой, широко раскинувшийся по обе стороны реки Оби, в средней части Тобольской губернии, медленно продвигались верхом, ведя еще по одной лошади в поводу, двое мужчин.
По одежде они были похожи на зажиточных сибирских крестьян.
Взмыленные лошади осторожно ступали, сторожко пофыркивали, нервно прислушиваясь к треску под ногами сухих веток.
Сумерки только стали сгущатся. Тайга была полна таинственным переливом лесных звуков, то тихих, гармоничных, убаюкивающих, то страшных, грозных, предвещающих близкую бурю.
Ехали оба молча, наклоняясь и отстраняя руками преграждавший путь лесной молодняк. Один из них прервал молчание.
– Пора 6ы, паря, отдохнуть и нам, и лошадям.
– Давно бы пора, да вишь, ни полянки тебе никакой, ни заимки.
– Где уж тут заимка, не видишь разве – самой заматерелой тайгой едем. Стой! Гляди вправо, кажись, поляночка, а?
– Будто поляна. Поворачивай!
Свернули вправо, и действительно, вблизи, в вечернем сумраке, обрисовалась большая поляна, покрытая высокой травой. Спешились, стреножили лошадей и пустили пастись. Собрали сухих еловых и сосновых веток, развели костер, расположились около, сняв с плеч берданки и положив их, вместе с патронташами, рядом с собой, на всякий случай.
Костер весело потрескивал, выбрасывая черные клубы дыма. Тихие летние сумерки струили крепкую, бодрящую прохладу, и делалось от нее зябко и приятно. Оба лежали у костра молча, раскуривали трубки, изредка лишь вспугивая руками лесную мошку, все-таки наседавшую на них, несмотря на дым, который мошка не любит и избегает.
– Кеш, а Кеш! Подложи-ка елочек в костер: больно мошкара докучает.
– А ты рыло закрой сеткой, вот и докучать не будет. Между прочим, можно и елочек подбросить, дело не трудное.
Тот, которого товарищ назвал Кешей, встал, лениво потянулся и пошел собирать сухолом. Принес большую охапку, бросил в костер. Он сразу затрещал на все лады, задымил темными пахучими клубами, а потом вспыхнул, озарив поляну ярким светом. Стало тепло, весело, и Кеша возобновил прерванный разговор.
– Думаю я так, Григорь, што таперя не надо стремить…[1] Отмахали мы верстав более полтыщи, и где жа им за нами угнаться. Да и тайга не выдает, матушка, широка она и агромадна, конца-краю нет. В тайге што на воде – следа не видно.
– Пустой ты человек, Кеш, как я вижу. Пофартило нам, четыре добрых конька купили[2], так почему жа не стремить. Мало ли тут старателей разных бродит. Невзначай набредут, вот и тю-тю наши коньки, поминай как звали. Коньки-то добрые, в самый раз в Тюмень, на ярмарку. Сармак[3] за них можно взять хороший: полкосой, а то и более, если продавать не на блат.
– То-то и оно-то, если не на блат. А как же иначе? Не нам же с тобой, Гришух, на ярмонку выводить. Без Каина не обойтица. Беспременно надоть Каину продать, а то, не ровен час, засыпися, не к ночи, да и не про нас будь сказано. Што мы фартовые, в Тюмени не то што менты[4] – и грудные дети знают. Што жа касаемо женского пола, тебе все тюменьские бабы знакомы. Кто Гришуху Сухостоя, он жа Распутин, из тюменьских девок не знает. Больно уж падок ты, Григорь, до бабьяго дела, вот што. Пропадешь из-за них, верно говорю.
– Не твоего ума дело. А што касаемо Каина – правильно, ему, злодею, продать надо. Жаль, добрые коньки, не хочется даром отдать. Сармак, паря, во как нужен. Дело одно я задумал, да не по плечу оно тебе, а потому и сказывать не буду.
Григорий оборвал разговор, а Кеша так и не полюбопытствовал узнать, что это за дело задумал его товарищ. И оба молча курили, смотрели остановившимися глазами на пылающий костер, и бог знает куда уносились их тяжелые мысли в этот чарующий летний вечер.
Страница из прошлого
Время было беспокойное, тревожное, вызванное японской войной и революционным движением, когда вся Сибирь, на всем своем огромном. протяжении, всколыхнулась и готовилась сбросить с себя вековой гнет. Это был период огромного подъема общественных сил всей России, и Сибирь быстро и смело вступила на путь революционной борьбы со старым режимом. Чита объявила Забайкальскую область республикой, два стрелковых сибирских полка и забайкальские казаки примкнули к революционному народу и заставили генерала Холщевникова, губернатора Забайкалья, сдать правительственные учреждения новому правительству. Иркутск также был захвачен народом и революционными войсками. Правда, все это продолжалось недолго. На Читу совершил набег из Маньчжурии печальной известности генерал Рененкампф, а на Красноярск, Иркутск другой генерал, еще более печальной известности, – Меллер-Закомельский. Окруженные правительственными войсками, Красноярск, Иркутск, Чита и другие сибирские города были бессильны бороться и сдали завоеванные позиции, спокойно ожидая своей участи. Но два знаменитых генерала были беспощадны, жестоки, и народная кровь обильно оросила великий сибирский путь от Челябинска до Владивостока.