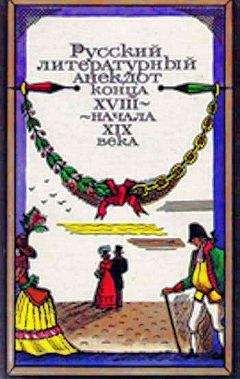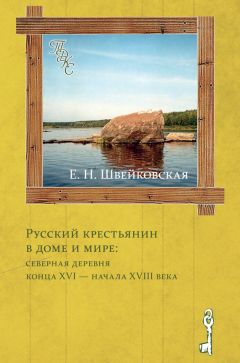Автор Неизвестен - Русский литературный анекдот конца XVIII - начала XIX века
* * *
Граф Дмитрий Иванович любил жертвовать экземпляры своих стихотворений многими сотнями экземпляров, воображая, что пожертвования эти принесут пользу нравственную. Но выходило часто, что эти экземпляры получали назначение, далеко не способствовавшее делу просвещения. Так, например, граф пожертвовал несколько сот экземпляров своей поэмы на наводнение 1824 года, под названием: "Потоп Петрополя 7-го ноября 1824 года" в пользу Российской Американской Компании. Все эти экземпляры были правлениями компании отосланы на остров Ситху для делания патронов. [22, с. 32.]
* * *
Светлейший князь Суворов очень часто в своем интимном кругу жаловался на мономанию мужа своей племянницы и говаривал ей: "Танюша, ты бы силою любви убедила твоего мужа отказаться от его несносного стихоплетства, из-за которого он уже заслужил от весьма многих в столице прозвище Митюхи Стихоплетова!" И сам Суворов не раз обращался к Хвостову с увещеваниями; обратился он к мономану-стихотворцу с предсмертным увещеванием, когда в мае месяце 1800 года, по возвращении из Италии, умирал в Петербурге, в Коломне, в доме Фоминой, в квартире графа и графини Хвостовых.
Лежа на смертном одре, Суворов давал предсмертные наставления и советы близким'к себе людям, которые входили к нему в спальню поодиночке на цыпочках и оставались несколько минут в присутствии духовника и исторически знаменитого камердинера Прошки. Когда вошел к умиравшему дяде Хвостов, в ту пору еще сорокадвухлетний свежий мужчина, но, кажется, уже сенатор, и стал на колени, целуя почти холодную руку умиравшего, Суворов сказал ему:
— Любезный Митя; ты добрый и честный человек! Заклинаю тебя всем, что для тебя есть святого, брось твое виршеслагательство, пиши, уже если не можешь превозмочь этой глупой страстишки, стишонки для себя и для своих близких; а только отнюдь не печатайся, не печатайся. Помилуй Бог! Это к добру не поведет: ты сделаешься посмешищем всех порядочных людей.
Граф Дмитрий Иванович плакал, и вышел, поцеловав руку умиравшего, который велел ему позвать его; жену, т. е. свою племянницу Татьяну Ивановну. Когда Хвостов возвратился в залу, где ожидали много мужчин "и женщин, интересовавшихся состоянием здоровья князя Италийского, которому оставалось только несколько часов жизни, знакомые и родные подошли к Хвостову с расспросами.
— Увы! — отвечал Хвостов, отирая платком слезы, — хотя еще и говорит, но без сознания, бредит! [22, с. 35–36.]
* * *
Главным местом, которое избрал граф Хвостов для нападений на неопытных людей, был, как известно, Летний сад, где в Петровском дворце живал летом тогдашний министр финансов, граф Егор Францевич Канкрин. Надоедал и ему Хвостов своими стихотворениями, так что граф Канкрин, с своим откровенным простодушием, не лишенным, однако, насмешливости, решился раз навсегда отделаться от поэтических атак графа Дмитрия Ивановича. Однажды в Летнем саду, при нескольких лицах, именно при А. Я. Дружинине, Ф. П. Вронченко и Н. И. Серове, граф Канкрин своим зычным голосом сказал Хвостову:
— Фаши стихи, фаше сиятельство, граф Тмитрий Ифаныч, так префосходны, што састафляют меня самого пропофать писать такие же стихи, шрес што я софершаю косударственное преступление, уклоняясь от моих опязанностей престолу и отешеству. А потому я финушден пуду кататайствовать фисочайшее повеление сапретить фам, краф, шитать мне фаши пленительные стихи!
Граф Дмитрий Иванович был далеко не глуп; но страсть к своим виршам в нем была до того сильна, что он не понял насмешливой шутки Канкрина и всем ее рассказывал, дав, однако, себе слово не отвлекать государственного человека от его занятий, которыми он обязан был по присяге престолу и отечеству. Таким образом, Канкрин был застрахован от чтения стихов Хвостова или "хвостовщины". [22, с. 37.]
* * *
Щедрость обоих, и мужа, и жены (Д. И. и Т. И. Хвостовых), нисколько не умаляла состояния этой четы добрых, хотя и карикатурных Филемона и Бавкиды Сергиевской улицы. Однако ж иногда они нуждались в деньгах, когда управители замедляли высылку доходов… Такую невзгоду старосветские старички переносили шутя; огорчало их только то, что в такой момент им приходилось несколько затягивать шнурки кошелька (тогда о портмоне еще понятия не имели) и отказывать себе в удовольствии помогать беднякам и оказывать дружеские услуги приятелям, к числу которых, предпочтительно перед многими, принадлежал Ив. Андр. Крылов. Он раз обратился к графу именно в минутку "затяжки шнурков".
Страдая безденежьем, граф Дмитрий Иванович предложил Ивану Андреевичу вместо денег, на лицо не имевшихся, только что изготовленные для продажи 500 полных экземпляров своего собрания стихотворений в пяти томах, 1830 года.
— Возьмите, Иван Андреевич, все это добро на ломового извозчика, говорил Хвостов, — и отвезите Смирдину, с которым вы находитесь в хороших отношениях. Я продаю экземпляр по 20 р. асе.; но, куда ни шло, для милого дружка — сережка из ушка, отдайте все это Александру Филипову сыну (т. е. Смирдину, которого так иногда в шутку называли), для скорости, по 5 р.; даже по 4 р. за экземпляр, и вы будете иметь от 2 до 2500 рублей, т. е. более, чем сколько вам нужно.
Крылов, думая, что за эту массу книг, роскошно изданных, дадут если не по 4, то, по крайней мере, по 2 р., соображая при том, что даже рассчитывая на вес, наберется почти сотня пудов, не принимая, конечно, в соображение водянистости и тяжеловесности стихов, поблагодарил графа, добыл, чрез графскую прислугу, ломового извозчика и, несмотря на свою обычную лень, препроводил весь этот транспорт на ломовике к Смирдину, конвоируя сам этот литературный обоз от Сергиевской до дома у Петропавловской церкви, на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.
Но каково было удивление и разочарование Крылова, когда Смирдин наотрез отказал ему в принятии этого, как он нецеремонно и вульгарно выражался, хлама, которым, по словам русского Ладвока, без того уже завалены все кладовые у Оленина. В задумчивости, но не расставаясь со своею флегмой, вышел из магазина Иван Андреевич на Невский проспект, где ломовой извозчик пристал к нему с вопросом: "Куда прикажет его милость таскать все эти книги?"
— Никуда не таскай, друг любезный, — сказал Крылов, — никуда, а свали-ка здесь на улицу около тротуара, кто-нибудь да подберет.
И все эти 500 книг творения Хвостова были громадною массой свалены у тротуара против подъезда в книжный магазин. Им бы, этим экземплярам книг с "хвостовщиной", пришлось лежать тут долго, если бы вскоре не проскакал по Невскому проспекту на своей лихой паре рыженьких вяток с пристяжной на отлете обер-полицмейстер Сергей Александрович Кокошкин. Подлетев к груде книг, он подозвал вертевшегося тут квартального, удостоверился, что все это творения знаменитого творца Кубры, и велел разузнать от Смирдина, в чем суть. Когда Кокошкин проезжал обратно, книг графа Хвостова тут уже не было: все оне, по распоряжению частного пристава, отвезены были, по принадлежности, обратно к графу Хвостову, о чем, с пальцами у кокарды треуголки, частный отрапортовал генералу, пояснив с полицейским юмором происхождение этой истории, автором которой был Иван Андреевич Крылов. [22, с. 21–24.]
И. А. КРЫЛОВОднажды, сидя в кабинете А. Н. Оленина и говоря с ним об "Илиаде" Гомера, Гнедич сказал, что он затрудняется в уразумении точного смысла одного стиха, развернул поэму и прочел его. Иван Андреевич подошел и сказал: я понимаю этот стих вот так, и перевел его. Гнедич, живший с ним на одной лестнице, вседневно видавшийся с ним, изумился, но почитая это мистификациею проказливого своего соседа, сказал: "Полноте морочить нас, Иван Андреевич, вы случайно затвердили этот стих да и щеголяете им! — И, развернув "Илиаду" наудачу: — Ну вот, извольте-ка перевести". Крылов, прочитавши и эти стихи Гомера, свободно и верно перевел их. Тогда уже изумление Гнедича дошло до высочайшей степени; пылкому его воображению представилось, что Крылов изучил греческий язык для того, чтобы содействовать ему в труде его, он упал пред ним на колени, потом бросился на шею, обнимал, целовал его в исступлении пламенной души своей. Впоследствии он настаивал, чтобы Иван Андреевич, ознакомившись с гекзаметром, этим роскошным и великолепным стихом Гомера, принялся бы за перевод "Одиссеи". Сначала Иван Андреевич сдался на его убеждения и действительно некоторое время занимался этим делом, но впоследствии, видя, что это сопряжено с великим трудом, и, вероятно, не чувствуя особенной охоты к продолжению, он решительно объявил, что не может сладить с гекзаметром. Это огорчило Гнедича, и тем более, что он сомневался в истине этого ответа. Таким образом, прочитавши все, удовлетворивши свое любопытство и наигравшись, так сказать, этою умною игрушкою, Иван Андреевич не думал более о греческих классиках, которых держал на полу под своею кроватью и которыми наконец Феня, бывшая его служанка, растапливала у него печи. [62, с. 77–78.]