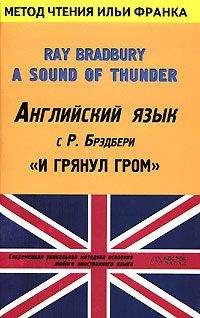Михаил Жванецкий - Собрание произведений в пяти томах. Том 3. Восьмидесятые
Смешно на чужом юбилее не сказать коротко о себе. От гласности пострадали многие, в том числе те, кто ее призывал. Шутки шутками, а звездануть через карман тяжелую промышленность, а усомниться, в подполье, как существует мясо-молочная промышленность, когда нет мяса… Оглушительные крики глухо звучали снизу: полные названия вещей своими именами, смелая критика системы неразборчиво бухтела под землей, зато какой успех, когда грязные и усталые мы шли домой.
Теперь открытая добыча. Свобода слова происходит уже на глазах по-прежнему молчащей публики. Шансов на успех нет. Можно, конечно, сказануть что-нибудь и загреметь в тюрьму, пока еще можно. Но это будет дешевый путь заигрывания с массами. Наш зритель обожает за рубль наблюдать, как кто-то мучается, говоря в лицо то, что все знают наизусть. Чтобы поддержать и речи нет, наблюдать безумно интересно. И капать... Он дергается, дергается, капнули – туже пошел, туже, но еще ковыряется, еще капнули – со скрипом еле-еле, еле-еле, еще каплю – распластался, застыл борец. Или лучше – умер молодым. Блеск.
Что ж делать тем, кто, выбрав трудный путь, живет? Если вчера самым глупым был вопрос: «Где это вы темы берете?», то сегодня еще глупее: «О чем вы теперь писать будете?» Да, действительно, прямо не знаешь. У нас как только исправится верх – испортится низ. Начал шевелиться низ, тут же забарахлил верх. Ну а золотая середина вообще не принимает ничего. Они понимают, что от них ждут самоубийства, и не хотят. А их обойти – все равно что миновать средние ступени лестницы. Поэтому хочется сказать на Запад: «Ребята, если бы вы знали, как мучительно даются первые шаги, о которых даже не знаешь, шаги ли это, ибо сопротивляются все, вы бы с огромным уважением воспринимали то, что здесь происходит, и тихо помогали, если хотите знать, чего от нас ждать в будущем».
Эльдар Александрович, самое смешное – наша жизнь, она же и самое печальное. Вы умеете найти ту точку между грустным и смешным, когда жизнь становится искусством.
Теперь о юморе. Как мрачны лица писателей-патриотов. Уж очень всерьез. А если всерьез, то вот уже, вот-вот уже что-то надо запретить, что-то не надо играть, что-то надо осудить.
Юмор – это демократия.
Юмор – это свобода.
Юмор – это терпимость.
Что пожелать лично Вам, Эльдар Александрович? Чтоб Ваше мнение о том, что перестройка затормозилась, газеты скисли, телевидение заткнулось, «Огонек» без конкуренции зазнался, а госприемка неэффективна, оказалось ошибочным. Чтоб шире развивалась кооперативная и индивидуальная деятельность, ибо, как Вы правильно скажете в своем заключительном слове, это единственный путь оживления омертвевших государственных форм.
Я желаю Вам, Эльдар Александрович, чтоб в магазинах периферии появились мясо, молоко и масло, чтоб в телемостах СССР – США перестала быть самой острой реклама еды, делающая молчание переводчика невыносимым. Мы желаем лично Вам, Эльдар Александрович, чтоб в центре Москвы вместо контор и учреждений возникли кино и мюзик-холлы, чтоб, как Вы справедливо укажете в своем заключительном слове, Москва по вечерам не погружалась в средневековый мрак, потому что, как Вы правильно думаете, от экономии электроэнергии не должны страдать живые люди, для этого есть масса бездарных заводов, а светомаскировка в ракетный век бессмысленна. Я еще хочу пожелать Вам, Эльдар Александрович, чтоб из нас, Ваших друзей, в условиях острой конкуренции приветствующих Вас, перестали вырезать лучшие места, это уже вынести невозможно. Сегодня все уже понимают, почему на экране писатель дергается, а обзванивать нет сил.
И в заключение. Это поколение от сорока до шестидесяти – последнее, что верит, сотрудничает и пытается. За нами идут люди, которых не проведешь. Если надуют нас, на них надеяться нечего. Ибо на детей сегодня больше похожи на экране их родители.
Арканову
Дорогой Аркадий Михайлович! Мне не хочется, обращаясь в Вашу сторону, рассказывать о себе. Или даже хорошо выглядеть на Вашем вечере. Он Ваш, и Вы – ствол, окученный нашими произведениями. Мы, жители маленьких городов, перебрались постепенно в большие и, создавая эту прославленную давку в метро и на переходах, дуреем не только от того количества, которое сами же создаем, но и от качества людей в Москве.
Здесь уже собрался крепкий народ, прошедший через обмены, прописки, фиктивные браки, ОБХСС, УВД и РОВД. И все это делает их незаменимыми друзьями, на которых так и хочется положиться в данный момент. Наглухо закрытые взглядом белых глаз, крепким рукопожатием, твердой походкой, умением согнуться, глядя вверх, и не сгибаться, глядя вниз, умением озабоченно ничего не делать, без мыслей сидеть, задумавшись.
Возьмите с собой собаку, возьмите с собой ребенка, чтобы увидеть, возьмите с собой женщину, чтобы почувствовать. И в этом всеобщем театре, если закрыть дверь и потушить свет, исчезнут все, окажется совсем несколько человек, с которыми можно помолчать, Аркадий Михайлович!
А мы мотаемся, рвем обои и радиаторы, щеголяем дверными ручками и жалким сине-белым фарфором, становимся такими смешными, что и писать об этом скучно. И в этом замоте позволяем себе не звонить друг другу, обижаться, говорить друг о друге объективно, допускаем высшее образование в наши отношения.
Мне бы представить Вас молчащими, спокойными, мне снять бы с Вас эту капусту, лист за листом, осторожно и медленно, и посидеть без Москвы. Молча. И даже присутствие публики не должно заставлять нас острить так обречено и бесконечно. Уже все трудящиеся отдыхают, а мы все шутим, шутим. Каким казался страшным этот возраст – сорок лет, – вот и он прошел, а мы все шутим.
А смешно уже пишут все. И на концертах публика умирает от хохота, когда наши братья выбивают ковры, когда их ведут дуть в одно место, когда тещины волосы сушат фонариком и все время намекают, что есть на свете половой акт, а смерти нет. Нет смерти, нет боли, нет попранного достоинства, нет равнодушия и несчастья. Мы, армия советских сатириков, собравшихся в маленькой комнате на крохотном диване, благодарим вас, Аркадий Михайлович, за то, что это не Вы пошутили таким образом, «что двойной тулуп – это дубленка за двойную цену». И это не Вы пошутили в конце фильма под общий хохот, что через девять месяцев у наших героев родился еще один мальчик. И Вы не пытались спеть и станцевать Льва Николаевича Толстого. Чтобы публика, отвыкшая от иронии и привыкшая к жуткому юмору телевизионных дикторов, хохотала от пачки папирос «белого мора». Я понимаю, что эти шутки не рождаются от вдохновения. Их порождают худсоветы и редакторы, уносящие с каждого просмотра по остроте, по мысли.
Ну что ж, помолчим, посидим, выпьем, Аркадий Михайлович... С Вами, как ни с кем, это приятно. Пусть наши тела не всегда принадлежат тем, кому бы нам хотелось, наши мысли при нас. И не пожелаем себе в старости молодой души. Тело, пожалуй, легче уберечь, чем душу. Оставим себе эту редкую возможность наслаждаться друг другом.
Как я его понимаю
Как противно звучало: «Старый муж – грозный муж, режь меня, бей меня». Теперь думаю: aх ты, финтифлюшка! Что ж ты одной внешностью, одной кожей своей такого заслуженного человека... Да что ты в сравнении. Его же и послушать, и поговорить... А как он советует! А умница... А понимает... А ты? Тебя же только потрогать. А говорить – ни до, ни после... Чего поешь про заслуженного человека... Он тебе в отцы годится.
Э-э... Стоп! Так ей нельзя говорить. Он тебе и квартиру, и деньги, и уют, и покой – э-э, стоп! Так нельзя говорить. Он учит тебя... Он показывает тебе... – так ей тоже нельзя... В общем, глупая ты, а он – нет... Понимаешь? Как же ей понять, если глупа? Кожа только твоя, и кости, и эти губы нежные, влажные, от которых... и глаза широкие серые наивные, и волосы мягкие тонкие, и аромат от головы, плеч, и шея, в которую уткнуться, и ой!.. колени невозможные, если положить руку и немножко ею двигать, и талия, и там груди с этой щелочкой для монетки или для крестика, и аромат ото всего, и свежечистое чего-то, теплое... А что еще в тебе есть?!!
А у него?.. Что там у него такого, не вспомню сразу. Я тоже не знаю, к чему там у него... Я тоже не знаю, что ты там целуешь... И слушай, не заставляй его танцевать, слушай, даже если он умеет... И вообще. Пусть уж лучше будет старым, чем еще бодрым, и не показывает кошмарную молодую душу на синеньких ножках. Где он хорош, пусть там и сидит – за письменным столом. И мне его жалко. И я ее понимаю. И я его понимаю... Он прошлое свое, хорошее имя свое... Дай отведать в последний раз...
Слушайте, а вдруг не любит она вас, ну не любит... Да ведь она же... Ну изменяет, и вы миритесь. Еще бы... И вы терпите…. Конечно… За что?.. А вот за свое ответное возрождение…
Как я его понимаю. Как я постарел.
Он, она и словарь
Стриптиз
Ночь. Темнота. Глазок приемника. Музыка.
Он (зажигает свет. Долго листает словарь). Ай... хэв... лав... мач...