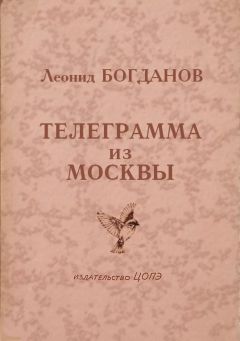Леонид Богданов - Телеграмма из Москвы
Дальше донесения несколько разнятся по содержанию, но оба сохраняют победный тон. Стоеросов пишет: "противник панически бежал." А фон Шинкенкопф пишет: "Разбив противника, я, в целях выравнивания фронта, оттянул свои войска в полном порядке на более удобный рубеж."
Ну, а дальше в обоих донесениях уже нет никаких расхождений ни в тоне, ни в содержании: "Положение противника критическое," -- пишут оба, -- "и разгром его неминуем. Умелыми и героическими действиями вверенных мне войск отечество спасено."
Умилительное во всем этом балагане то, что генералы пишут "я наступал", "я атаковал". Образец скромности: "я", которое боится фронта хуже, чем противника, после боя оказывается главным участником всего сражения. Ну, и в довершение всего, обоих генералов, Стоеросова и фон Шинкенкопфа, награждают орденами, они купаются в лучах славы, их осыпают милостями и потомки вспоминают их с благодарностью: о! это был легендарный герой!
И смех, и горе. Вот тебе и слава. Немеркнущая слава военачальника.
И я спрашиваю тебя, Ландышев, можно ли сравнить возможности в достижении славы генерала и писателя? Писатель -- это настоящий полководец. Он расставляет персонажи на места, планирует тактику и стратегию боя за душу читателя. Он не прячется за спины других, он смело выходит на самый передовой край фронта и вкладывает в уста созданных им людей свои слова, заставляет их передавать читателю свои собственные чувства -- любовь и ненависть, смех и слезы; он ведет подкопы и лобовые атаки против человеческого зла и часто без всякого стеснения порицает такие сокровенные пороки, которые могут быть известны только носителю их. Он всем огнем своего сердца поддерживает наступление добра на зло, сгорает живьем в бою, но побеждает... -- длинная фраза утомила Мостового и, окончив ее, он заговорил тихим проникновенным голосом:
-- Если бы писателям дали такие возможности, как генералам, как бы весело забурлила жизнь на планете, какими бы лишними показались войны, классовая вражда. Как легко было бы людям, освобожденным от власти зла, работать, строить счастье для себя и для других. И каким бы близким и родным для всех показалось учение самого человечного из людей, любвеобильного, кроткого страдальца Христа!.. Не улыбайтесь, Ландышев, вам не должно быть смешно, что редактор советской газетки, член партии Мостовой славит Христа.
-- В начале моего рассказа я дурачился, -- заметил Мостовой с мягкой и грустной улыбкой. -- Иногда дурачиться надо. Даже больше того, дурачиться надо именно тогда, когда ты хочешь, чтобы серьезная, важная мысль не прошла мимо ушей слушателя, не потонула в скуке сухого изложения. Смех, это -сладкая облатка для любой невкусной, но лекарственной мысли. И если необходимо излечить человека, не пичкай его тем, что ему кажется невкусным. Оберни все в смех, человек проглотит, поблагодарит, а потом, когда лекарство подействует, еще раз поблагодарит. Но, когда я говорю о Нем, о самом человечном, ступавшем по нашей земле, я не могу смеяться, переделывать вое в шутку. Это не ханжество. Это не уловка, прикрывающая циничную и бездушную сущность истовым крестом с закатыванием глаз к небесам.
Я не знаю, поймете ли вы это, но когда я думаю о Нем, я вижу миллиарды и миллиарды людей от древних времен до наших дней. Я мысленно представляю себе склонившиеся головы, лица полные веры, надежды, мольбы, просьбы, слезы радости, слезы самые сладкие из всех -- слезы искупления. Я знаю, что на протяжении почти всей истории человечества к Нему сходились все многочисленные грани мыслей и помыслов людей и, соприкоснувшись с Ним, излучали невиданный по красоте и чистоте блеск, брильянтовую игру всех лучших сторон человеческих душ. Вот поэтому, при одной мысли о Нем, у меня захватывает дыхание, я не могу смеяться, я только благодарно улыбаюсь Ему за все, что Он сделал для нас. Может, вам все это непонятно?..
Поживете, посмотрите жизнь и людей, пройдет и у вас пора восхищений громкими фразами, перестанете и вы верить в социалистические формулы ненависти и уничтожения одних, ради призрачного счастья других. Время и опыт откроют вам глаза и научат вас видеть жизнь.
И вот тогда, оглянувшись вокруг, вы поймете, что в атомный век не надо трудиться над созданием каменного топора и провозглашать этот топор вершиной всей мысли, науки и техники. Вы поймете, что творцы социализма и прочих, владеющих думами некоторых людей учений, создали нечто потупее и погрубее каменного топора по сравнению с тысячелетним совершенным учением Христа об основах человеческого общежития. И если что-нибудь на склоне лет потревожит вашу душу, наполнит ее тихой верой в будущее человечества, так это будет учение Его.
Мостовой умолк и вытер платком бледный, вспотевший лоб. За окошком брезжил рассвет. Уже было видно в полосах ползущих змеями утренних туманов синеющую каемку далекой тайги, огромной, тяжело проходимой и таинственной, как сама человеческая жизнь.
-- Скажите, Ландышев, вы верите в Бога? -- спросил Мостовой и пытливо посмотрел на поэта.
Тот как-то сразу будто бы сжался и после небольшой паузы ответил:
-- Не знаю.
-- Значит, верите, -- улыбнулся Мостовой -- Тот, кто сомневается, никогда не станет неверующим, но может быть самым большим праведником, а тот, кто верит безотчетно, может перестать верить.
Сомневающийся способен думать, а мысль и только мысль и есть основа религии.
Вы знаете, Ландышев, на чем построена наша антирелигиозная пропаганда?.. На внешнем эффекте, который воспринимается глазом, а не мыслью. Помню, один из антирелигиозников меня просвещал: вот, плюну на икону и ничего мне не будет. И плевал. Больше того, рубил иконы топором, жег их на костре и танцевал вокруг огня, стреляя из нагана. Это было в самом начале советской власти. Я тогда был еще юноша. Я посмотрел и поверил: нет Бога!
Прошло много лет. Я научился думать. И теперь я понимаю, к чему тогда стремился антирелигиозник, вернее, не он -- он был круглым дураком, -- я понимаю, к чему стремились тогда вожди коммунистической партии. Они призывали рубить иконы, убивать в людях веру, потому что их человеконенавистническое куцее учение -- пигмей, по сравнению с вечным учением Христа о любви, справедливости, душевной чистоте. Это великое учение является неисчерпаемым источником силы и веры в своего ближнего, в будущее, источником всего, без чего нельзя, -- вы понимаете? -- нельзя жить!
Мостовой вытер платком выступивший на лбу пот и продолжал:
-- Нет! Они религию не убьют. Помните, как во время войны, почуяв смертельную опасность, они сами открыли церкви, чтобы отогреть огнем тысячелетней веры замороженные сердца людей, не видящих, ради чего они будут сражаться и не хотевших сражаться за несколько томов Маркса и других писак. Этим они показали свою духовную немощь.
Теперь даже слепой видит, кто сильнее.
И настанет еще такое время, Ландышев, когда человек, встретив другого, спросит: "Ты христианин?" "Христианин", -- ответит другой И больше ничего им не надо будет спрашивать, чтобы узнать друг друга, и каждый из них доверится другому полностью, без страха, и будут они, как братья. Это время настанет! Оно будет, будет!
Ты понимаешь, Ландышев, оно должно быть, потому что иначе мы, люди, съедим друг друга. Съедим так же, как ест у нас член партии другого члена партии и как сожрали уже миллионы партийцев. Так же, как сейчас ты можешь меня съесть, написав донос, что Мостовой мол говорит крамольные речи. Напишешь?!..
-- Я знаю, что не напишешь, -- не дождавшись ответа продолжал Мостовой. -- Столбышев написал бы... Маланин, которого, может быть, сейчас сожрали, тоже написал бы. Они -- партийцы по духу: властолюбивые бездельники, тупицы, которым без партии единственное место -- навоз возить. На коммунизм им наплевать, и они в него не верят так же, как и мы с тобой. Но попробуй сказать, что их кормилица-партия нехороша, что вся система -- блеф. Горло перегрызут!.. А вот Егоров, старый партиец с девятьсот пятого года, этот -овечка, заблудившаяся в волчьей стае. Он -- подвижник в публичном доме.
-- А я кто? -- спросил Ландышев.
-- Ты просто человек. Ты любишь свои стихи, как мать своих детей, и как мать идет ради своих детей продаваться, так и ты, ради того чтобы печатали твои стихи, продаешься. Только тут уже не то. Ты себя обманываешь, как обманывают себя все советские писатели.
Пожалуй, в Советском Союзе для писателей созданы небывалые еще в истории мира условия. Наконец-то, благодаря советской власти, появились писатели-миллионеры. Некоторые за одну книгу миллион получают. Только пиши да пиши. Но, что пиши? То, что ты думаешь, или то, что написано в очередном постановлении ЦК партии? У советских писателей кастрировано творчество. Их произведения оплодотворены чужим семенем и не похожи на своего отца, не содержат никакого отцовского наследства. Писатель, поэт ничему в своих произведениях читателя не учит. Учит партия, а писатель лишь ищет персонажи и форму, как передать это учение. Передал -- хорошо, получил кучу денег за литературную проституцию. Не можешь передать, способен только своими мыслями кормить читателя -- коленкой под зад! Не просто на улицу, а подальше, в концлагерь: раз есть свои мысли, значит, опасный человек. Сколько наших писателей было расстреляно, послано на гибель на Колыму, Магадан только за то, что они писали от души, а не по партийной указке? Поэтому те, кто живет, пишет, ловко подделываясь под линию партии, те уже не писатели, это литературные ландскнехты, подхалимы, приживальщики, наемные шуты и плакальщики.