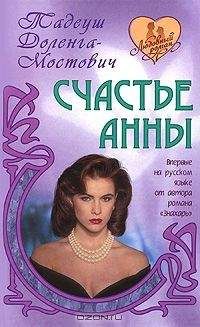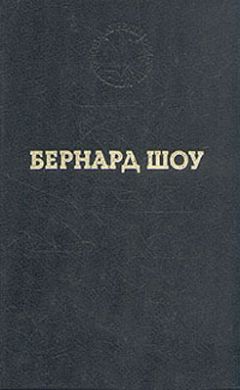Тадеуш Доленга-Мостович - Карьера Никодима Дызмы
— Еще бы…
Было решено сегодня же вечером устроить совещание с Дызмой. Министр, нацарапав несколько слов на своей визитной карточке, послал за Дызмой в Европейскую. Когда принесли письмо, Никодим только еще проснулся. Времени у него как раз хватило для того, чтоб одеться и не спеша пообедать. До министерства было всего несколько минут ходьбы, и Никодим, глянув на карманные часы, отправился туда пешком. Когда на его звонок открылась дверь, швейцар, хмуро глянув на Дызму, бросил;
— Вам чего? Канцелярия уже закрыта.
— Тише! Тише! — высокомерно прошипел Дызма. — Я к министру Яшунскому.
Швейцар изогнулся в поклоне:
— Покорнейше прошу меня извинить. Министр вместе с паном Уляницким ждут вас в кабинете.
Он заботливо снял с Дызмы пальто.
— Разрешите проводить… Это здесь, во втором этаже.
Никодим не успел еще до конца осознать всей значительности факта: через минуту он будет беседовать с министром; то, что при выезде из Коборова казалось совершенно неправдоподобным, теперь принимало реальные очертания, претворялось в жизнь. Бег событий уносил Дызму с собой, словно поток. Он это ощущал, но суть явлений постичь не мог, не мог объяснить, почему это случилось именно с ним, Никодимом Дызмой.
Получив приглашение, он сразу догадался, что речь пойдет о выпуске хлебных облигаций, о том самом плане Куницкого, который с таким восторгом принял Уляницкий. Больше всего Никодим опасался, что министр станет его расспрашивать о подробностях. Надо быть настороже! Самое главное — придерживаться того метода, который давал до сих пор на практике самые лучшие результаты: говорить поменьше.
Уляницкий и Яшунский радушно встретили Дызму.
Поскольку Дызма и Уляницкий были на ты, сразу создалась дружественная атмосфера. Яшунский начал с комплиментов, напомнил Никодиму банкет 15 июля и инцидент с Терковским.
— Еще тогда я вам так и сказал: будь у нас в стране побольше таких людей, как вы, дела шли бы у нас великолепно. Да, не сомневаюсь, что великолепно.
— Вряд ли я заслужил…
— Никодим, не прикидывайся скромником! — весело прогремел Уляницкий.
Заговорили о хлебных облигациях. Дызма очутился под перекрестным огнем вопросов. Правда, оба сановника предупредили его, что в сельском хозяйстве смыслят мало, тем не менее Дызма был очень осторожен и все время опасался, как бы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Но его выручила хорошая память: припоминая понемногу, он сумел повторить почти все, что сказал ему Куницкий. На всякий случай добавил и то, что слышал о «своем» проекте от Уляницкого.
Яшунский был в восторге и потирал руки. Стало уже темнеть. Зажигая лампу, министр игриво улыбнулся:
— Ну, дорогой пан Дызма, не могу, откровенно говоря, назвать вас златоустом, но голова у вас на месте. Стало быть, все в порядке. Имейте в виду — строжайшая тайна! На время. Потому что еще много предстоит поработать. Ясь подготовит проект закона, это пойдет в экономический комитет кабинета министров, а я завтра поговорю с премьером. Единственная трудность, которую я предвижу, это вопрос со складами. О постройке новых не может быть и речи. Кредитов мы не получим. Впрочем, главная трудность даже не в этом. Во всяком случае, пан Никодим, реализация вашего замечательного проекта без вас не обойдется, можете быть уверены.
— Разумеется, — прогудел бас Уляницкого.
— Вы не откажетесь сотрудничать с правительством? Можно на вас рассчитывать?
Дызма почесал затылок:
— Почему же, можно…
— Благодарю вас от всего сердца. С моей точки зрения, главное — это кто занят тем или иным делом. Вопрос личности!
Яшунский запер ящики письменного стола. Уляницкий позвонил швейцару.
Никодиму пришло в голову, что настал подходящий момент исполнить просьбу Куницкого.
— Пан министр, — начал он, — и у меня есть свои заботы.
— Да? К вашим услугам. — И министр с любопытством глянул на Дызму.
— Вот в чем дело… В гродненской дирекции казенных лесов сидит некто Ольшевский. Этот Ольшевский все время делает пакости коборовской лесопильне… Он ненавидит Куницкого и поэтому все уменьшает этот… ну, как его… контингент дерева из казенных лесов…
— Правда, — прервал его министр, — припоминаю: были даже какие-то жалобы. Этот Куницкий, вероятно, весьма оригинальная личность. Вас с ним что-нибудь связывает?
— Боже упаси, только дела…
— Никодим — его сосед и уполномоченный жены Куницкого, с которой тот в ссоре, — пояснил Уляницкий.
— Пан Никодим, я буду откровенен, — ответил министр, — мне не хотелось бы отменять распоряжений Ольшевского. Куницкий слывет канальей и мошенником. Но я верю вам безоговорочно. Действительно ли увеличение контингента дерева послужит казне на пользу? Да или нет?
— Да, — и Дызма кивнул головой.
— Верно ли, что Ольшевский без оснований чинит помехи лесопильням пани Куницкой?
— Без оснований.
— Решено. Я считаю, что искусство управления заключается в умении принимать быстрые решения.
Яшунский вынул визитную карточку, написал на ней что-то и, вручив ее Дызме, улыбнулся.
— Пожалуйста! Вот записка Ольшевскому. Независимо от этого я велю завтра утром послать ему соответствующую телефонограмму. Вы когда возвращаетесь в деревню?
— Послезавтра.
— Жаль. Но не буду задерживать. Ждите от меня вестей. Ясь, у тебя есть адрес пана Дызмы?
— Есть. Впрочем, завтра мы встретимся с ним на бридже у пани Пшеленекой. Никодим тоже там бывает.
— Прекрасно. Еще раз благодарю, желаю счастливого пути.
И он протянул Никодиму обе руки. Все надели пальто и вышли на улицу. Уляницкий хотел было поужинать с Дызмой, но министр воспротивился.
— Опять напьешься, а момент серьезный — нельзя позволять себе никаких штучек.
Они расстались, выйдя на Краковское предместье, и Никодим отправился в гостиницу. По дороге он остановился у одной из освещенных витрин, вынул из кармана записку министра и прочитал:
«Директору Ольшевскому. Гродно.
Прошу немедленно разрешить в благоприятном смысле претензию Никодима Дызмы по делу коборовского лесопильного завода.
Яшунский».
Никодим старательно спрятал записку в бумажник.
— Ишь ты холера! — сказал он громко.
В этом возгласе прозвучало и удовлетворение, и удивление, и больше всего восхищение самим собой.
Дызма почувствовал почву под ногами. Эти люди из чужой, недосягаемой, казалось бы, для него среды нашли что-то в нем, в Дызме… Кто знает, может быть, они и правы…
Да, Дызма был доволен собой.
В гостинице его ждал сюрприз: узкий светло-серый конверт, адресованный на его имя. Из конверта пахнуло знакомыми духами. Лист почтовой бумаги был убористо исписан изящным ровным почерком, внизу подпись: Нина Куницкая.
Никодим улыбнулся:
— Смотри-ка! Что ж она такое пишет?
Он зажег лампочку у кровати, скинул ботинки и, улегшись поудобнее, стал читать:
«Уважаемый пан Никодим!
Вас удивит мое письмо, а может быть, еще больше — моя просьба. Если я и смею к Вам обращаться, то лишь потому, что проявленное Вами расположение позволяет мне надеяться, что Вы на меня не рассердитесь.
Речь идет о небольшой покупке: мне не удалось достать в Гродно хороших теннисных мячей. Я была бы Вам признательна, если б Вы купили дюжину мячей в Варшаве.
Я могла бы, правда, написать в магазин, но мне хочется, чтоб Вы выбрали сами. Может быть, не стоило отнимать у Вас время, ведь оно имеет особую цену для Вас, пока Вы в Варшаве, где так много дел и развлечений — театры и приемы, ну, и… красивые женщины, которые, как мне нескромно проболталась Кася, так любят посылать кавалерам цветы. В Коборове нет красивых женщин, но цветы красивее, чем в Варшаве…
Когда Вы вернетесь?
Собственно, я злоупотребляю словом «вернетесь». Ведь вернуться можно только к тому, кого считают своим, близким; вернуться можно к чему-то, с чем связывает нас жизнь или чувство…
Коборово сегодня печальное и серое. Вот уже несколько дней как оно кажется мне таким. Да ведь Вы знаете, как я его люблю и как должна бы его ненавидеть. Прошу Вас, не ставьте мне в вину того грустного диссонанса, который я вношу в веселую гармонию Вашего настроения. Что ж, признаюсь: мне недостает Вашего общества, я так одинока.
Коборово ждет Вашего возвращения, пан Никодим, — извините, я снова употребила это слово, — ждет Вашего приезда.
Нина Куницкая»
Дызма дважды перечитал письмо, понюхал конверт и подумал: «Понравился я ей… Что ж, молода еще, а муж старый. Может, воспользоваться?»
Но тут его стали мучить сомнения: не вышвырнет ли его Куницкий вон, как только заподозрит что-то неладное. Однако ему в ту же минуту пришло в голову, что теперь положение резко изменилось.
«Попробуй только, старый хрыч! Теперь я могу взять тебя, за глотку! Известно ли тебе, с кем дело имеешь? С другом министра! Понятно?»