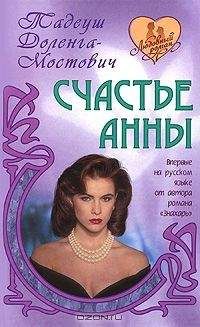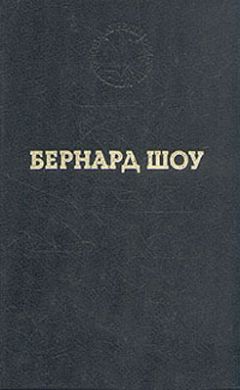Тадеуш Доленга-Мостович - Карьера Никодима Дызмы
— Браво! Блестящая мысль! Позавтракаете со мной? Впрочем, вы, деревенские жители, встаете с петухами…
Полковник искренне обрадовался приезду Дызмы. Человек этот был ему на редкость симпатичен, к тому же — великолепный автомобиль: значит, сегодня при поездке в Варшаву можно будет обойтись без Виляновской железной дороги.
— Мы вчера здорово выпили, — заговорил Вареда, — думал, башка будет трещать, но, к счастью, чувствую себя великолепно.
И действительно, Вареда был весел и оживлен, только налитые кровью глаза говорили о вчерашней попойке.
— Я сказал: «к счастью», потому что надо спрыснуть ваш приезд, — продолжал Вареда. — Вы знаете, ваш инцидент с Терковским сделался прямо анекдотом. Удалось подрезать немного крылышки этой птичке.
— Ну, что вы!
— Клянусь богом! С тех пор как его назначили начальником канцелярии премьера, этот Терковский потерял всякое соображение. Вообразил, идиот, что все будут разбиваться перед ним в лепешку.
— А что поделывает министр Яшунский?
— Как что? — удивился полковник. — Да ведь он на съезде в Будапеште.
— Жаль.
— У вас к нему дело?
— Небольшое.
— Поживите несколько дней в Варшаве. По крайней мере повеселимся. Яшунский часто вспоминает вас.
Дызма глянул на полковника с нескрываемым изумлением. Тот поспешил с объяснением:
— Факт, клянусь богом. Как это он сказал о вас?.. Стойте, стойте!.. А! «Этот Дызма знает, что такое жизнь: хватает ее за холку и в морду — трах!» А? Яшунский может… Я ему даже советовал издать книгу афоризмов.
Затем Дызма узнал, что положение Яшунского поколебалось: против него выступают и помещики и союзы мелких землевладельцев, да и Терковский вместе со своей кликой роет ему яму. В сельском хозяйстве тяжелый кризис; выхода нет. Жаль Яшунского: человек толковый, да и свой парень.
Разговор зашел о делах Дызмы, и полковник спросил:
— Вы, пан Никодим, кажется, то ли компаньон, толи сосед Куницкого?
— И то и другое, — ответил Дызма, — да еще доверенный его жены.
— Ах, так? Что вы говорите? Этой… графини Понимирской. Такая хорошенькая блондинка, да?
— Да.
— Слыхал, там не очень-то она с этим Куницким…
— Даже весьма не очень, — рассмеялся Дызма.
— Между нами говоря, не удивляюсь, потому что он старый хрыч, да и человек, надо думать, заурядный. Впрочем, вам виднее.
— Что поделаешь!
— Понимаю, понимаю, — согласился полковник. — Дела есть дела. Извините, я при вас оденусь.
— Сделайте одолжение!
С террасы они прошли в комнату, и Вареда пожелал угостить Дызму коктейлем собственного приготовления. Тем временем денщик принес мундир, и через полчаса полковник был готов.
Подошли к автомобилю, и Вареда с восхищением принялся его осматривать. Он, должно быть, неплохо разбирался в машинах, потому что повел с шофером совсем особый разговор, из которого Дызма почти ничего не понял.
— Хорош, хорош, — с восторгом твердил Вареда, усаживаясь рядом с Дызмой. — Пришлось, наверно, потратиться?.. Тысяч восемь долларов, а?
Машина тронулась, и Дызма под рокот мотора, заглушавший его слова, ответил:
— Хе-хе, с хвостиком.
По дороге они договорились, что встретятся вечером за ужином в «Оазисе».
— Там лучше всего, будет много знакомых. Уляницкого знаете?
Уляницкого Дызма не знал. Но, опасаясь, что это какая-нибудь известная личность, ответил, что знает только понаслышке.
Доставив полковника в штаб, Дызма вернулся в гостиницу, велел шоферу заехать за ним в десять вечера и отправился в кафе. Не без труда отыскав свободный столик, велел принести чаю с пирожными и задумался над тем, как провести время. Однако в голову не приходило ничего путного. В Варшаве он не знал ни одного человека, которого он, управляющий имением, мог теперь навестить. При мысли о Бартиках Дызма даже содрогнулся. Их закоптелая комната была для него таким же олицетворением суровой действительности, к которой рано или поздно надо будет вернуться, как заляпанный чернилами так называемый зал почтовой конторы в Лыскове. Никодим чувствовал, что его необыкновенное приключение скоро кончится, но старался об этом не думать.
Безделье, однако, возвращало его мысли к действительности. Чтобы настроиться на другой лад, Дызма решил подняться в свой номер. Тут он вспомнил о письме Понимирского, вынул его, прочитал.
— Э, чего там! — махнул рукой Никодим. — Пойду, что со мной сделают…
Пани Юзефина Пшеленская встала в этот день с левой ноги. Это было единогласно признано на кухне в десять утра, а в одиннадцать по всей квартире поднялись такая суматоха и шум, как будто дело было не в одной левой ноге, а по меньшей мере в обеих.
В двенадцать квартира уважаемой пани Пшеленской являла собой зрелище хаоса и паники: антикварный столик перебрасывали с места на место, пока наконец он не брякнулся куда-то в пыль, задрав вверх свои рахитично-изысканные ножки. Хозяйка гарцевала перед растерянными слугами по квартире, точно валькирия по полю брани. Впереди трещала пулеметная очередь ее ругательств, позади, словно крылья бурнуса, развевались полы шлафрока.
В гостиной урчал пылесос, на дворе гремел гром от выбиваемых ковров. Окна то распахивались, потому что в этой духоте нельзя было высидеть ни минуты, то с треском закрывались, потому что от этих сквозняков гулял ветер в ушах. В довершение всего беспрерывно трещал телефон, и в трубку из хозяйкиного рта градом сыпались ругательства, хлесткие, словно удары арапника.
В эту минуту в передней раздался звонок. Чаша терпения была переполнена, и пани Юзефина рысью помчалась лично отпереть дверь. Прислуга в ужасе замерла, мысленно поручив божьей опеке особу злосчастного гостя.
Дверь распахнулась, и, подобно пушечному выстрелу, грянул зычный вопрос:
— Вам чего?
Этот нелюбезный прием не озадачил Никодима. Напротив, он вдруг почувствовал в себе больше уверенности — тон и внешность этой дамы напомнили ему его собственных знакомых.
— Як пани Пшеленской.
— Чего вам надо, опрашиваю?
— Есть дело. Доложите пани, что пришел приятель ее племянника.
— Какого еще там племянника?
— Графа Понимирского, — не без самодовольства произнес Дызма.
Эффект был неожиданный. Растрепанная дама вытянула руки вперед, как бы защищаясь от нападения, и оглушительно заверещала:
— Не заплачу! Ни гроша не заплачу за племянника! Нечего ему было влезать в долги!
— Что? — удивился Дызма.
— Обратитесь к его зятю! Я не дам ни гроша, ни гроша! Это возмутительно: все ко мне, чистое наказание…
Для Дызмы это было слишком. Кровь бросилась ему в лицо.
— Что вы тут разоряетесь, черт вас подери! — рявкнул он во все горло. Пшеленская замолкла, как громом пораженная. Широко открыв глаза, съежившись, с испугом глядела она на непрошеного гостя.
— Никто от вас денег не требует; а если чего и хотят, так отдать, а не взять деньги.
— То есть как?
— Говорю: отдать.
— Кто хочет отдать? — спросила Пшеленская с возрастающим удивлением.
— А вы думаете кто? Шах персидский, султан турецкий?.. Ваш племянник и мой друг.
Пшеленская схватилась за голову обеими руками:
— Ах, извините, у меня сегодня ужасная мигрень, прислуга довела меня до исступления. Не сердитесь на меня, простите! Пожалуйста, войдите.
Дызма прошел следом за Пшеленской в боковую комнатку. Половина мебели была там опрокинута, посредине торчала щетка для натирания паркета. Хозяйка поставила гостю стул у окна, а сама, извинившись за свой вид, вышла и исчезла на добрые полчаса.
«Что за дьявол, — принялся сам с собой рассуждать Дызма. — Кинулась на меня, как шавка на бродягу. Черт принес меня сюда! Видно, тетка вроде племянника!
Говорят, будто она важная дама, а выглядит как кухарка!»
Он долго не мог успокоиться, а когда пришел наконец в себя, стал сожалеть, что сразу сказал этой бабе о намерении Понимирского расплатиться с долгами.
«Считает его сумасшедшим, готова и меня записать туда же…»
Наконец хозяйка вернулась. Теперь на ней красовался бордовый шлафрок, волосы были причесаны, мясистый нос и пухлые щеки покрывал толстый слой пудры, губы были ярко накрашены.
— Простите великодушно, — заговорила хозяйка, — я страшно устала и изнервничалась. Пшеленская!
Никодим поцеловал ее длинную худую руку, представился.
Пшеленская тотчас осыпала его градом вопросов, он даже рта не успел открыть для ответа. Тогда он вынул письмо Понимирского и протянул Пшеленской.
Та немедленно принялась кричать:
— Боже мой, я забыла пенсне. Франя! Франя! Антоний!.. Франя! — надрывалась она.
Послышались торопливые шаги, и через минуту горничная принесла пенсне в золотой оправе.
Пани Пшеленская углубилась в письмо, щеки у нее раскраснелись, несколько раз она, прервав чтение, рассыпалась перед Дызмой в извинениях.