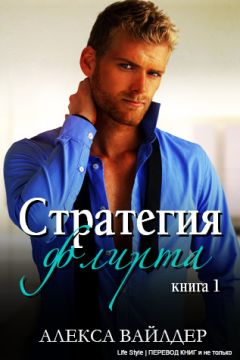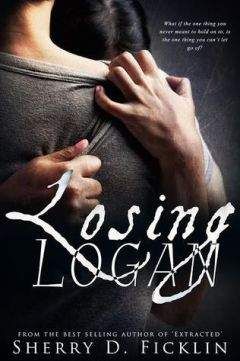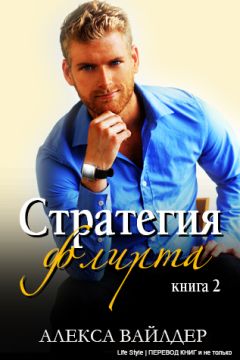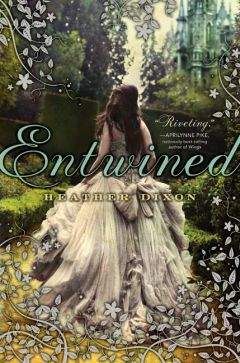Владимир Петрухин - Мифы древней Скандинавии
В те времена язычники верили, что предок может возродиться в потомке, носящем его имя. Говорили даже, что Олав Харальдсон — это возродившийся Олав Гейрстадальв; он действительно был назван в честь этого своего предка и даже получил в наследство меч и кольцо, добытые из кургана Олава. Но когда конунга, проезжавшего мимо кургана его предка, спросили, не был ли сам Олав похоронен там, он с гневом отрицал то, что было главным для эпохи родового строя: телесное — кровное единство рода, предков и потом; ков. Он говорил, что его душа не может иметь двух тел, ни ныне, ни в день Страшного Суда и воскресения из мертвых.
К этому ревнителю христианской веры и пожаловал однажды бородатый старик, назвавшийся просто Гостем — Гестом. Поведение его было вызывающим, а одет был он странно, и надвинутый капюшон не позволял разглядеть его лица. Его облик насторожил конунга, но речи старика были так завораживающи, что перед сном Олав велел ему приблизиться к его постели и потешить своими рассказами.
Гест принялся рассказывать и вел речи о подвигах конунгов древних времен. Наконец он спросил у Олава, кем из древних конунгов хотел бы тот быть, если бы у него было право выбора. «Я не хотел бы быть никем из язычников, будь то конунг или простолюдин», — отвечал Олав. Тогда Гест уточнил вопрос — на кого хотел бы походить Олав? «Я хотел бы более всего походить на благородного Хрольва Жердинку, но сохранял бы при этом свою веру», — сказал конунг. Тут Гест и спросил, почему Олав хочет уподобиться Хрольву, но не тому из правителей, кто никогда не знал поражений и кому не было равных в Северных странах?
И Олав узнал, кто перед ним. «Никогда я не пожелал бы стать тобою, проклятый Один!» — воскликнул конунг и запустил в своего собеседника молитвенником. Незваный гость исчез, и Олав понял, что то был нечистый дух, принявший облик древнего бога, чтобы своим мороком смутить его веру.
Прошло время, и при сыне Олава Святого конунге Магнусе исландский епископ Йон уже мог сказать: «Благодаренье Богу, эти страны стали христианскими, и Норвегия, и Исландия, ибо прежде бродили вперемежку и люди, и демоны, а нынче дьявол остерегается показываться нам на глаза».
Другие герои пришли на смену Одину и его валькириям. В одной исландской «пряди» рассказывается, как конунг Магнус повел свое войско на датчан. Мысли его были заняты не предстоящей битвой, а местью за убитого дружинника. Тогда во сне ему явился отец — Олав — и упрекнул конунга, что тот думает о какой-то безделице, в то время как уже дует попутный ветер. Магнус пробуждается и велит выступать в поход. Он одержал над врагом славную победу, и говорят, что в его войске видели Олава Святого…
Вместо заключения. Место древнего мифа в современной цивилизации
Олав Харальдсон — последний, кто видел Одина, — стал первым скандинавским святым. Он пал в 1030 году в битве с войсками Кнута Могучего, датского конунга, который объединил Данию, Англию и Норвегию под своим владычеством. Скальд Сигват, прославлявший геройскую смерть Олава, сказал, что «у Олава взяли жизнь в пляске Скёгуль».
Скёгуль — это валькирия. Но скальд, конечно, не хотел оскорбить память главного противника Одина: он просто использовал кеннинг — «пляска Скёгуль» это всякая битва, и павший в ней вовсе не считался избранным валькирией.
Оба крестителя Норвегии неслучайно так заслушивались рассказами их таинственного гостя: Один оставил людям «мед поэзии». Когда скальд-язычник Эгиль Скаллагримсон исполнял перед Эйриком Кровавая секира свою хвалебную песнь «Выкуп головы», конунга-христианина не смущало то, что перед ним «течет Игга чистый мед» — поэзия скальдов не считалась языческой, не была связана с культом древних богов. Снорри Стурлусон в XIII веке составлял учебник для скальдов, собирая и систематизируя древние мифы, приводя многочисленные примеры кеннингов и хейти — мифологических названий, когда люди уже не верили в Одина как в бога. Для христиан он стал уже предводителем нечистой силы, проносящейся в бурях во время йуля.
Поэтические метафоры, кеннинги уже были лишены мифологического смысла: «норной» в скальдических стихах могла именоваться просто женщина, а одно из имен Одина мог носить любой мужчина, не прославленный особыми доблестями или коварством. И конунг Олав — христианский святой — мог именоваться «Бальдром битвы» и «Одином воя стрел» — то есть военачальником, командующим в битве (вой стрел). Выросшая из мифологии поэзия становилась надгробным памятником языческого мифа.
Но мы знаем, что памятники значат очень много (неслучайно есть и понятие «литературных памятников» — в этой издательской серии были опубликованы и переводы «Старшей» и «Младшей Эдды», «Круга Земного — Хеймскринглы» и др.). Они воплощают память, без которой невозможно существование ни отдельного человека, ни общества.
Скандинавы-язычники не мыслили себе мира без памятников — курганов предков (и до сих пор археологические памятники бережно охраняются в Скандинавских странах). Эти памятники нужны были даже для того, чтобы доказать свои права на наследство. Скальдические стихи также были памятниками — они хорошо запоминались теми, кто знал правила, по которым они составлялись, — язык поэзии. Не случайно древнейшим дошедшим до нас скальдическим произведением был «Перечень Инглингов» Тьодольфа из Хвинира: генеалогия правителей была древнейшей формой истории. Не случайно и исландский ученый Снорри уже в XIII веке составлял учебник поэтического языка — «Младшую Эдду»: понимание древнего скальдического языка исчезало в новую христианскую эпоху.
Новые христианские ценности вытесняли древнюю культуру; языческие боги становились магами и обманщиками, или бесами, проносящимися с «Дикой охотой». Валькирии, вера в которых сохранялась на Севере Европы, были внесены христианским епископом в черный список грешников — колдунов и ведьм. Великий конунг Харальд Прекрасноволосый и великий скальд Эгиль Скаллагримсон, умершие язычниками, были перезахоронены своими христианскими потомками по новому обычаю. Зато древние герои и их деяния, которые были вызовом судьбе, предопределенности человеческого существования, оставались близкими средневековому человеку. Подвиги Сигурда украшали резные порталы норвежских церквей, а история Нибелунгов стала рыцарским эпосом.
Но и средневековая христианская культура была преходящей: потомки германских варваров, принимая крещение, разрушавшие памятники античной цивилизации, в эпоху Возрождения стали считать античные руины высшим достижением человечества. В эту эпоху и Шекспир нашел у Саксона Грамматика древнюю сагу о Гамлете — мстителе за убитого отца (у Саксона тот сжигает убийцу в его же доме).
Возрождение древней германской и скандинавской культуры началось позднее, в начале XIX века, когда немецкие ученые Вильгельм и Якоб Гриммы стали собирать немецкие сказки, а Якоб Гримм написал свою «Немецкую мифологию». Их последователем в России был А.Н. Афанасьев, собравший русские народные сказки и написавший труд с характерным поэтическим названием — «Поэтические воззрения славян на природу».
Живой интерес и даже любовь к сказкам и мифам в современной европейской культуре — не просто детская привязанность или дань древней традиции. Сказки и мифы сохраняют образ иной культуры с иным взглядом на мир. Способность и необходимость понимать другого, насущная потребность в этом понимании — та наука, к которой с трудом приходит современное человечество.
Ученые XX века написали много глубоких и увлекательных книг о том, насколько древние люди и их взгляд на мир отличались от наших современников и их представлений. В этой книге тоже немало свидетельств таким отличиям. Поступки богов и героёв настолько иррациональны, что приводят к самоистреблению героического рода и самого мира языческих богов. Их можно истолковать, как вызов судьбе, но понять до конца невозможно, как невозможно узнать, что сказал Один на ухо Бальдру, когда тот лежал на погребальном костре.
Не только поступки мифического Одина, но и смертного героя — сурового Хёгни или Хагена из «Песни о Нибелунгах» — кажется, воздвигают мифологическую стену непонимания между ними и современным человеком. Но этот взгляд будет все же односторонним.
Эгиль Скаллагримсон, внук Квельдульва — волка-оборотня, и сын берсерка Скаллагрима, скальд и знаток магических рун, проведший жизнь, достойную избранного героя Одина, состарился и потерял в битвах сыновей. В своей самой знаменитой песни, которая так и называется — «Утрата сыновей», Эгиль готов попенять Одину — ведь Судья побед нарушил их дружбу.
Он готов гордо отвергнуть главу богов, но друг Мимира дал ему дивный дар, возмещая все несчастья — это мед поэзии. Исландцы запомнили и последнюю вису, сказанную старцем Эгилем Скаллагримсоном. Она завершалась словами: