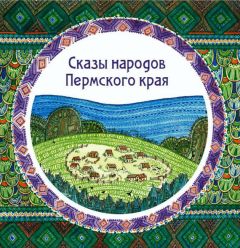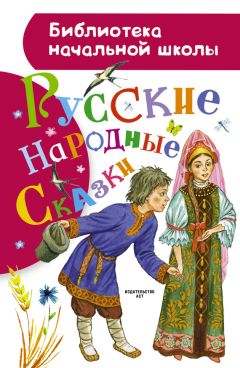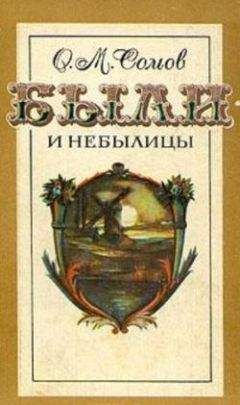Игорь Кузнецов - Русские были и небылицы
Как-то остановились на этом дворе одни проезжие, бедные мужички, переночевали, а наутро при расчете не уплатили одной копейки. Знамое дело, копейка хоть и не деньга да недорого стоит, но для скряги что золотой, что медная копейка – все равно, одинаково он их бережет и лелеет.
Так и наш старик – долго приставал к проезжим мужикам, чтобы рассчитались сполна, но делать нечего, где же взять копейку, коли ее нет; не лошадь же отпрягать, и то хорошо, что побожились мужики:
– Ей-богу, мол, отдадим, когда назад ворочаться будем.
Однако старику не спалось, не елось, все мерещилась ему неотданная копейка, и, не дождавшись обратного проезда мужичков, он взял да и удавился. Дети его хорошо знали, что батюшка их, конечно, не в рай угодил, а потому посоветовались со священником, который и велел им в течение восьми лет ни с кого за постой не брать, а бедных мужиков даром кормить.
Послушались они этого совета и ни с кого не берут за постой, а бедных и даром кормят. Вот проходят и восемь лет, как-то под вечер в сильную вьюгу прикатили на тройке богатых лошадей на этот двор двое господ и просятся переночевать, а господа эти, к слову сказать, были не кто другой, как черти.
Переночевали они, призывают, кто за хозяина, и дают за постой; тот не берет.
– Ну возьми хоть лошадку, – говорят господа.
Но и от лошадки отказываются. Делать нечего, уехали. Глядь, а на дворе стоит в хомуте серый жеребец, господский коренник; так и ахнули стариковы сыновья, но все-таки подошли к жеребцу и снимают с него хомут.
Только что успели снять, ан перед ними вместо жеребца – их отец, который благодарит их, что послушались они совета священника, что теперь он отмолен и избавлен от мучений.
Проговорив это, старик тотчас же скрылся.
(А. Иванов)Посмертные состояния души
Как только человек начинает испускать дух, так за его душой ангелы являются, но духи лукавые обыкновенно предупреждают их заблаговременно, и здесь между ангелами и дьяволами торги идут большие. Ангелы спрашивают:
– Зачем вы, архары черные, явились? Зачем вы душу пужаете?
Черти начинают ангелам доказывать свои права на душу помирающего. Помирающий в свою очередь тоже оправдывается, но если он грешник, то у него отшибает язык, и он не может тогда говорить слов в свое оправдание.
Пока идут торги, человек не помирает и только время от времени переводит дух.
(Г. Завойко)[При глубоком обмороке] больного вместо подачи какой-либо помощи наряжают в чистую одежду и кладут на лавку, как покойника.
– Не знаем, – говорят крестьяне, – вернется его душенька с того света в свое тело или нет. Она ведь по раю да по аду ходит, так тело и одежда должны быть чистыми, чтобы душа не побрезговала войти назад, когда из своего странствия вернется.
(Г. Попов)Душу видеть нельзя. Но ее мимолетное присутствие с несомненностью обнаруживается в момент расставания души с телом… Станет умирать человек – и зачнет позевать. Душа вылетает изо рта, и потому у каждого человека, когда он умрет, бывает открытый рот.
И в обычное время, когда человек жив и здоров, душа временами оставляет человека; когда, например, он погрузится в первый сон, то его разбудить сразу нельзя. Он проснется тогда, когда возвратится к нему душа…
Душа – тень, неуловимая для слуха, едва заметная для глаза.
Она выходит из человека в виде пара или облачка неопределенной формы…
В одном селе (Мураши) мне рассказывали:
– Когда у мамы умирал ребенок, она созвала ночевать старушку. Когда наступила смерть, старушка видела, как на стене промелькнула тень – и больше ничего не было.
– Это, – догадывается старушка, – промелькнула душенька или тень ее.
(Г. Виноградов)Рассказывают, что когда умирает грешный человек, то душа у него так и рвется, даже видно, как грудь подымает, а у праведного человека душа выходит потихоньку, плачет, когда расстается с телом, скорбит о теле.
По выходе из тела душа принимает вид маленького человечка и видна праведным.
(«Русские крестьяне». VII)[Ставят на раскрытое окно стакан или чашку с водой], чтобы душа, вышедшая из тела покойника, в этой воде или искупалась-омылась, или запила этой водой ту горечь, которую они чувствовала при расставании с телом.
Сверх того кладут в углу под иконами в доме умершего хлеб, который должен пролежать тут шесть недель, потому что покойник будет приходить каждую ночь в тот дом и подкреплять себя этою пищею.
(В. Борисов)Душа – дуновение, дух, ветер.
Когда слышится завывание ветра в трубе, суеверные люди говорят:
– Чья-то душа родная жалуется, что ее не поминаем!
(А. Соболев)Умирал наш зять. Сидим мы около него. Потом вижу, как ему умереть-то: из окна в окно пролетела… Не видала кто, а как будто маточка (мотылек).
(Г. Виноградов)Когда умирает человек, то стараются в последние минуты подержать у его рта ковш с горячими угольями и ладаном – чтобы душе легче было подняться на небо.
Связанные у покойника руки и ноги перед тем, как хоронить, развязывают, чтобы свободнее ему было предстать на тот свет.
(С. Осокин)На том свете покойник живет той же жизнью, какой жил и прежде, сохраняя все свои внутренние и внешние качества, и исключение представляют лишь дети. Они, по воззрению олончан, продолжают расти и мужать.
А потому когда умирает ребенок, то меряют рост его отца ниткою, обрывают ее и кладут нитку в гроб, «для того чтобы он родителей не перерос, а рос бы да мерился да вовремя остановился».
(Г. Куликовский)Маленьким кладут в гроб под подушку яйца и говорят:
– Он радуется пусть яичку, может быть, и поиграет там…
Когда обрезывают ногти, то обрезки их собирают в одно место и хранят, а при погребении покойнику кладут в гроб и его ногти, чтобы они помогли перебираться ему через какую-то высокую гору на том свете.
(«Русские крестьяне». V)Единственное отчетливое представление народа о загробной жизни – это ее вечность. Там во веки веков будешь мучиться или жить хорошо… И не умрешь больше, и никакой перемены больше не будет…
Народу не нравятся, например, ночи, потому что «в темно» свободно разгуливает везде нечистый и приходится опасаться лихого человека; не нравится также и холод – и их не будет на том свете.
Там будут всякие древа, вишенья и цветы… Из «того света» народ исключает заботы о своих насущных потребностях, т. е. то, что для него тяжело…
На том свете Бог дает неизносимые одеянье и обутку. Есть не будут на том свете, без еды все сыты будут.
– А что же делать-то там будем?
– А уж это что Господу угодно заставить.
Прибавляют, впрочем, еще, что все родные, попавшие в рай, будут жить «вместях».
(«Русские крестьяне». VII)Души умерших взрослых людей пребывают в темном пустом месте до страшного Христова судилища, – праведники и грешники все вместе. В то время, когда за них вынимают просфору, глаза их видят свет.
Лучше всего служить по покойникам панихиду и поминать их в субботу или в какой-нибудь праздник на неделе, тогда они видят свет вплоть до того времени, когда священник кончит воскресную службу. А если поминать их в воскресенье, то свет осеняет их глаза лишь на то время, пока длится служба.
Мы не знаем ничего – где какая душа будет после Христова судилища, в раю ли, в аду ли. Но сама душа в то время, когда мы ее поминаем, видит уготованное ей место. Если человеку умершему приготовлено место в аду, то родные и близкие его на земле могут спасти его своими молитвами, могут умолить за него Господа. Особенно легко может мать умолить за своих детей – молитва матери всегда доходит до Бога. Так же и жена за мужа. А муж за жену умолить не может: таков уж закон.
Если в субботу отслужить заупокойную обедню по покойнику, то душа его освобождается из темного места, где она заключена, – на целые сутки, вплоть до окончания воскресной службы. Душа в это время свободно гуляет по белому свету.
Если она праведная, то невидимо пребывает с нами в это время, остерегая нас от греха; если же она грешная, то летает по тем местам, где грешила, мучится, глядя на совершенные ею грехи, терпит казнь и этим постепенно искупает свои прегрешения.
Сами за себя умершие не могут молиться – они молятся только за нас, в то время, когда мы поминаем их за обедней, и по их молитве прощаются нам многие наши грехи. Мы за них молимся, а они – за нас, ни им без нас, ни нам без них нельзя быть.
(О. Семенова)О конце света и Страшном суде
До Страшного суда и грешники, и праведники живут в особом помещении, темном и страшном: свету и радости не имеют.