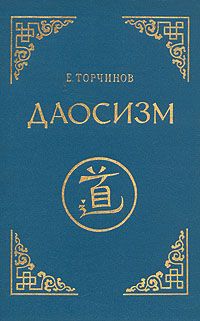Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
За исключением того, что говорится о Псолоях и Олиях, тут сказание почти вполне удержало первобытную форму. Растерзание мальчика сопровождается съедением, которое во множестве других сказаний или успело совершенно сгладиться, или оставило только незаметные следы, заставляющие нас иногда с трудом догадываться, что за ними скрывается сказание о настоящем каннибализме. Мотивом поступка, который во время существования каннибализма не нуждался в оправдании, здесь, у Плутарха, является умопомешательство, но вместе с тем указана и настоящая причина, именно желание поесть человеческого мяса. Что мы здесь имеем дело с очень первобытной формой сказания, ручательством тому служит между прочим наивная простота, с которой говорится о кидании жребия, несмотря на трудность согласить эту обдуманность с умопомешательством, которое вследствие этого и является именно только позднейшей вставкой. Но как только раз был допущен мотив бешенства, то скоро представилась возможность сближения с Дионисовым культом, где оно играет столь важную роль. Затем и всё сказание должно было подвергнуться тем искажениям, которые мы видели в вышеприведённых сказаниях. Так как для нас в высшей степени поучительно проследить эти искажения, чтобы вывести оттуда хоть некоторые правила, которыми следует руководиться при восстановлении первобытной формы мифа из искажённой, то я позволю себе привести некоторые варианты того же сказания.
В «Превращениях» Антонина Либерала, жившего около 150 г. по Р. Х., о дочерях Миния рассказывается следующее: «Левкиппа, Арсиппа (вм. Арсиноя) и Алкафоя слишком любили свои домашние занятия и порицали прочих женщин, которые, оставив город, праздновали в горах вакханалии. [Однажды сам] Дионис, принявши вид девушки, увещевал их участвовать в таинствах или мистериях божества; но они не слушали его. Прогневанный этим, Дионис превращался из девушки в быка, льва, и пантеру [т. е. в тех же животных, в которых превращался и Загрей, когда Титаны хотели растерзать его] [697] , и ему [навстречу] вытекал из навоя [у которого они были заняты ткачеством] нектар и молоко. Ввиду этих чудес женщинами овладел страх. Немного спустя, они все три [вместе], кинули жребий в сосуд и встряхнули; когда выпал оттуда жребий Левкиппы, то она обещалась принести жертву богу [Дионису] и, вместе с сёстрами, растерзала сына». [698] Затем они отправляются в горы к вакханкам, где Гермес превращает одну из них в летучую мышь, другую в сову, а третью в филина. [699]
Тут прямого указания на каннибализм мы уже не находим. Если бы не существовало рассказа Плутарха, то лишь с большим трудом нам удалось бы восстановить более старинную форму мифа, в которой ребёнок представлялся съеденным. Указанием для такого вывода должно было бы, собственно, послужить то обстоятельство, что ребёнок был принесён в жертву; его принесли в жертву – значит умертвили и съели его, причём, конечно, часть жертвы досталась божеству, в честь которого было устроено это жертвоприношение. Но, при отсутствии правильных понятий о первоначальном значении человеческих жертвоприношений, этот вывод показался бы чересчур смелым. Тогда оставался бы, правда, ещё один способ, именно сравнение с мифом о Пенфее в связи с мифом о самом Загрее. Но вряд ли и этим приёмом удалось бы убедить, что сказание о дочерях Миния существовало когда-либо в столь неблаговидной форме, как та, которая передаётся Плутархом. Отрицая правильность неблаговидных выводов, большинство учёных считает даже совершенно лишним приискивать что-либо для опровержения оных.
У Элиана, жившего около 200 г. по Р. Х., мы находим наше сказание в следующем виде. Все жёны беотийцев, подобно женщинам других стран, совершали вакхические оргии (собственно «предавались бешенству, сумасшествию»). Одни лишь дочери Миния, Левкиппа, Арсиппа (как у Антонина) и Алкифоя (вм. Алкафои), не участвовали в этом, «потому что любили своих мужей» (известно, что оргии Дионисова культа отличались распущенностью). За то пред их глазами совершаются чудеса, как в рассказе у Антонина, причём не упоминается только о превращениях Диониса. «Но и всё это не убедило их предаться услужению бога. Тогда они [были наказаны тем, что] свершили вне Киферона не меньшее преступление, чем [то, которое было совершаемо] на Кифероне. Ибо сына Левкиппы, который был ещё ребёнком [собственно был нежен и молод], они растерзали как молодого оленя вследствие овладевшего ими бешенства. Затем дочери Миния побежали оттуда к [прочим] женщинам, которые уже с самого начала были менадами [вакханками]. Те стали их преследовать за преступление. [Тогда] они превратились в птиц: одна – в ворону, другая – в летучую мышь, третья – в сову». [700]
Тут ещё больше изменений. О жребии уже вовсе не упоминается. Не говорится даже, что Гиппий был принесён в жертву. Они просто растерзали его без всякой цели, в припадке сумасшествия. Тем не менее здесь сохранились ещё две важные черты: Гиппий был растерзан в нежном возрасте, и он был растерзан, как молодой олень. Замечание, что Гиппий был «нежен и молод», важно тем, что оно ничем не мотивировано в самом рассказе. Если казалось более вероятным, что женщины растерзали не взрослого человека, а ребёнка, то для этого вполне достаточно было назвать его просто ребёнком. Поэтому, если в сказании о Пенфее мы не могли добиться иным путём, что он был ребёнок, то достаточно было бы одного сравнения с этим рассказом Элиана об Гиппие, чтобы заключить, что взрослый возраст приписывался Пенфею только вследствие ошибочной догадки о сопротивлении его вакхическому культу.
Особенно же мы должны остановиться на сравнении растерзанного Гиппия с молодым оленем. Что это сравнение является в рассказе Элиана не случайно, это видно на первый взгляд. Так как у него мы находим явное смешение с преданиями Дионисова культа, то в этом последнем придётся искать объяснения этой черты.
Тут мы находим, что сам Дионис сравнивался с оленем. [701] Он носил накинутую на плечи небриду, т. е. оленью кожу. [702] У Эврипида даже вакханки, услужницы его, сравнивают себя с молодыми оленями. [703] Очевидно, что сам Дионис сравнивался с молодым оленем только потому, что был сам растерзан подобно тому, как молодые олени растерзываются дикими зверями. Иной причины, почему бы он уподоблялся оленю, мы не находим. Из той важности, которую получило это сравнение в культе Диониса, мы заключаем, что оно было старинное, чисто народное выражение, употреблявшееся для означения подобной смерти, как та, которой подвергся Загрей. Поэтому сравнение с молодым оленем является столь важной чертой, что даже всюду, где только она встречается в совокупности хоть с немногими указаниями на смерть, мы прямо оттуда можем сделать заключение о роде этой смерти, сколько бы он ни был искажён в известном мифе. Эту черту мы находим во многих сказаниях, между прочим и в двух следующих.
Актеон.
Актеон, сын Аристея и известной нам уже Автонои, дочери Кадма, был превращён в оленя и вслед за тем растерзан своими собственными пятьюдесятью собаками на Кифероне, т. е. точно там же, где был растерзан и Пенфей. Причина его превращения и смерти передаётся самым различным образом, очевидно, потому, что в первоначальной форме мифа она или вовсе не упоминалась, или играла, как и вообще в большей части мифов о каннибализме, вполне второстепенную роль. У Овидия, у которого этот рассказ составляет одну из самых удачных частей его «Превращений», виновницей является, как известно, богиня охоты, Диана, так как присутствие такого громадного количества собак и превращение в оленя заставляло представлять себе всё дело происходившим во время охоты. [704] Что под собаками тут скрываются люди, это не может подлежать ни малейшему сомнению. Многие, связанные здесь с собаками, черты напоминают нам людей. Во‑первых, в различных рассказах приводятся (хотя и различно) их имена, что мыслимо только, если в более первоначальной форме мифа упоминались вместо них имена каких-нибудь лиц. [705] Во‑вторых, у Аполлодора сохранился даже рассказ о том, как эти собаки искали впоследствии своего господина, и как печаль их могла быть усмирена только тем, что для них было сделано изображение Актеона. [706] Наконец, количество их напоминает нам пятьдесят сыновей Ликаона, которые, вместе с отцом угощали Зевса мясом зарезанного ребёнка. Очевидно, что люди, растерзавшие и съевшие Актеона, превратились только со временем в собак, причём следует полагать, что переходной ступенью послужила одна из форм сказания, в которой люди только сравнивались с собаками.
Но мы имеем ещё одно, более прямое указание, что Актеон был растерзан людьми, а не собаками, именно у Плутарха, где он является только сыном не Аристея, а Мелисса (имя деревни близ Коринфа). Рассказ Плутарха особенно замечателен странностью мотива, которым объясняется смерть Актеона. Ираклид Архий влюбляется в Актеона, решается насильно похитить его у отца и приводит с этой целью целую толпу слуг и друзей с собой. «Отец и его родственники противились этому; прибежали ещё и соседи [и помогали] вырывать мальчика [из рук Архия], вследствие чего Актеон, будучи тянут в противоположные стороны, лишился жизни» . [707] Тут целая толпа родственников, слуг и соседей, разорвавших Актеона, есть, очевидно, те же пятьдесят собак, которые «ели Актеона и глотали кровь его» . [708] Кроме того, что здесь речь идёт о людях, эта форма сказания стариннее ещё и в том отношении, что Актеон является в ней ребёнком, в то время как другие сказания представляют его взрослым.