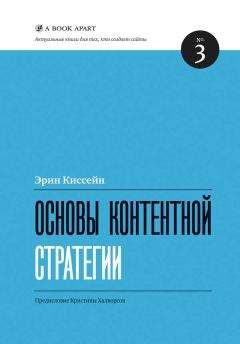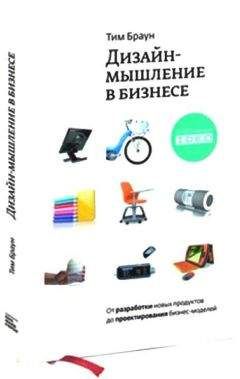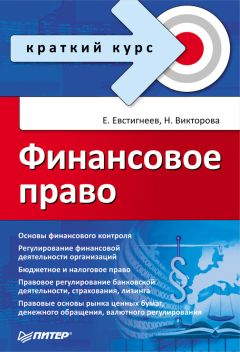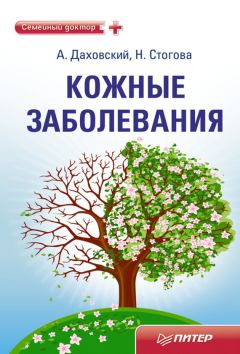Русская фольклорная демонология - Рябов Владимир
Про такие визиты говорят, что явившийся мертвец «другого покойника ищет» [1652], в рассказах он зовет и уводит за собой живых членов семьи, женщина, сожительствующая с мужем-покойником, «сохнет», дети, которых моет или кормит покойница-мать, худеют и могут умереть. Так, в архангельской быличке в дом является покойница-мать и зовет по имени своего пятилетнего сына — через три дня ребенок умирает [1653]. В рассказе из Новгородской области внучку, которую навещает мертвая бабушка, удается спасти, только приняв особые меры: «ищо бы <…> раза два эта бабка пришла к ей, и вы бы ее больше не нашли» [1654].
В ряде случаев угроза, исходящая от ходячего покойника, описывается более прямо и непосредственно, «телесно». Покойник может буквально забрать, затащить в могилу, утопить, задушить, «задавить» или сожрать свою жертву. В сибирской быличке покойница-мать является дочери и поначалу зовет ее, а потом хватает за волосы, волочет к реке и пытается утопить [1655]. В рассказе из Архангельской области женщина посещает по ночам своих детей — родные опасаются, что она их «задушит» [1656]. В быличке из Новгородской губернии жена-покойница «давит» своего мужа: «побежал это он [муж — В. Р.] домой, а она [покойница — В. Р.] его на крыльце подхватила — и ну давить, ну давить! Прибегли мы, он на крыльце лежит, весь в синяках <…> потом язык отнялся и через три недели умер» [1657].
Мотивы о поедании живых мертвецом появляются в рассказах о мертвецах-людоедах — «еретиках»: «в соседней избе помер недавно старик — большой колдун; и таперича каждую ночь рыщет он по чужим домам да людей ест» [1658]. В подобных историях мертвый отец намеревается съесть собственного сына [1659], мертвецы преследуют солдата, заночевавшего в церкви, так что ему удается спастись в последнюю минуту [1660], или гонятся за человеком по лесу и грызут до рассвета сосну, на которую тот взобрался, пытаясь спастись от преследования [1661].
Жили-были мужик да баба, и был у них сын. Сына сдали в солдаты. Отслужил он свой срок и вернулся домой в деревню, и матери и отца нет. Спрашивает он, где они; ему отвечают мужики: «Вот новой дом, тут и помер твой отец, а мать тоже давно померши». Взял солдат вина и пошел в дом. Сидит ночью, пьет вино, а покойник и приходит — весь в белом. И говорит он сыну: «Я съем тебя». — «Погоди, — говорит солдат, — сперва вина выпьем, а потом и съешь меня». Пьют, а солдат эдак между прочим и спрашивает, будто ни к чему: «И чем это, батюшка, вас убивают?» А покойник и говорит: «осиновым колом три раза буде на испашку [наотмашь — В. Р.] успеешь ударить — убьешь». Пошел солдат в сени, будто бы за нуждой; ищет осиновой палки, а мертвец кричит: «Что ты там мешкаешь, мне ка тебя есть пора». Нашел наконец солдат палку, подошел к мертвецу, да как хватит его: тот и опрокинулся. Сделали домок [гроб — В. Р.] ему, обручи набили и повезли на погост. По дороге один [обруч — В. Р.] лопнул, другой цел остался. Привезли, похоронили и осиновыми клиньями забили [1662].
Эти истории стоят несколько особняком: отчасти в них обыгрываются демонологические мотивы, отчасти они напоминают сказку.
По некоторым свидетельствам, «заложные покойники» в той или иной форме служат нечистой силе, выполняют ее волю. Например, в быличке из Новгородской области ребенок, умерший некрещенным, называет «грешка» (чёрта) своим хозяином [1663].
Согласно распространенным представлениям, самоубийцы (иногда — и другие грешники) выполняют у чертей роль ездовых животных: «души самоубийц и опойцев часто принимают вид лошадей, и по ночам на них катаются черти, они принимают вид купцов и ямщиков, страшно бьют и мучают попавшиеся им души» [1664], «ведь как человек утопится, задавится, дьявола на нем едут» [1665], «вот все говорят, что чёрт на утопленниках катается. Утонут да удавятся — самое плохое дело, на них черти воду возят» [1666].

Иллюстрации Сергея Соломко к пушкинскому стихотворению «Утопленник». Страница из издания 1895 г.
Пушкин А. С. Утопленник. — Санкт-Петербург: Изд-во А. С. Суворина, 1895
От задавилася соседка там. А поднялся вихор [вихрь — В. Р.]. Открылося все… Супрядка [1667] вся выскочила на улицу глядеть.
А на ней черти поехали! По сарафану узнали, говорять:
— Ой, ета на нашей Сюне поехали черти!
Бархатный сарафан на ей одет был [1668].
В орловской быличке жадный хозяин постоялого двора вешается из-за недоплаченной ему копейки. Его сыновья, следуя совету священника, восемь лет не берут с постояльцев платы. По истечении этого срока к ним приезжают черти под видом господ и оставляют на дворе жеребца. Сыновья снимают с него хомут и обнаруживают вместо животного своего отца, который благодарит их, «что теперь он отмолен и избавлен от мучений» [1669]. В другой истории к кузнецу рождественским вечером стучится некий человек и просит подковать ему коня. Кузнец выполняет свою работу. Заказчик спрашивает, узнал ли кузнец коня. Кузнец видит, что перед ним не конь, а умерший поп-пьяница, а заказчик оказывается чёртом [1670]. Похожая история была зафиксирована в Сибири, только там вместо кобылы оказалась удавленница [1671].
Это тоже бабушка Анна Алексеевна рассказывала. А ей один кузнец.
Вот, значит, одна удавилась, женщина… Ну, вот ему она будет крестна, этому кузнецу-то. И вот прошло уже это порядочно время. И вот приезжают в одиннадцать часов.
— Будь добрый (на паре коней), подкуй мне лошадей!
— Да, — гыт, — темно. Где ж буду я… как ковать?
— Нет, будь добрый, подкуй! Большие деньги я тебе… хороши деньги заплачу.
Но, он пошел ковать. Ногу-то поднял, копыто-то — там человечья нога-то! А голову положила на оглобли, плачет. Это его же крестна! Черти на ней ездят, катаются за то, что она удавилась. А второй конь — какой-то сродственник тоже. Подошел, хотел ковать — у него и руки-то опустились. И потом как они свистнули, засвистали, закричали. Петухи пропели <…> — и их как не было [1672].
Согласно некоторым свидетельствам, «заложные покойники» сторожат клады: «в симбирских поверьях выяснилось новое занятие для заложных, а именно быть “приставниками” при кладах, то есть стеречь клады в земле, не допуская до них людей. <…> В тюремнихином саду у забора клад выходит коровой… [1673] А приставников у той поклажи трое: опившийся человек, проклятой младенец да умерший солдат Безпалов» [1674]. В быличке из Новгородской области одному пьянице является брат, умерший до крещения, и говорит о себе: «Я тут сторожу клады» [1675]. В другом тексте рассказчица говорит о елке, разбитой молнией: «точно, наверное, и правда — тут клады караулит некрящоный» [1676]. В сибирской бывальщине мертвец, который служит конем у нечистых, указывает человеку, где зарыт котел с золотом [1677].